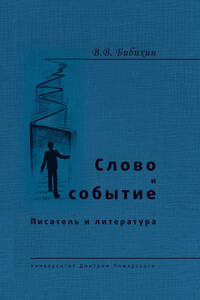Язык философии | страница 18
Мало того. Частные языки разделяют не только группу от группы, но и личность от личности. Каждый человек сохраняет особый мир прежде всего и почти исключительно благодаря своему языку. У каждого свое имя. Каждый говорит по–своему, даже если на том же языке. Язык ведет к пониманию, но он же и ставит проблему понимания, потому что предполагает исходную непонятость между людьми. Язык настолько же обособляюще–разобщающая, насколько сообщающая среда. Причем сначала разобщение, потом общение. Язык раздвигает, хранит и устраивает пространство между людьми. Благодаря языку каждый может занять свое место в этом пространстве отдельно от миллиардов других. Каждому из миллиардов язык позволяет быть таким особенным, каким в природном мире дано быть, возможно, только целым видам.
После Вавилона всечеловеческого языка, по–видимому, не существует. В средневековой и новой Европе его пытались реконструировать. Чаще всего первоязыком называли язык Библии, поскольку на нем всеобщий Создатель говорил например с Моисеем, когда сказал ему «Я есмь Сущий». Древнееврейский объявлялся первоязыком не как таковой, а как избранный Богом. «Первоязык есть язык, на котором Бог говорил с людьми» — это, строго говоря, тавтология. Допустимо было умозаключить, что Бог скорее всего выбрал именно этот язык за какие‑то его исключительные достоинства, например за большее согласие с природой человека. Но это уже означало бы, что он не всечеловеческий, а просто лучший из человеческих в прошлом и эстафета может перейти к другим.
Поиски единого праязыка продолжаются в эсотерических школах современной лингвистики. Они значимы не столько своими находками, которые невелики, сколько как симптом стойкого ощущения, что языки, какими мы их знаем, национальные и частные — не вся правда о человеческом языке, что эту правду надо еще искать.
Могло бы показаться будто достаточно вглядеться в то, что обще всем языкам, и мы получим черты всечеловеческого наречия. Характерно однако, насколько бесплодным оказалось вычисление языковых универсалий, которым интенсивно занята позитивистская и структуралистская лингвистика последних десятилетий. Попытки сформулировать хотя бы простейшие универсалии увязают в спорах о том, называть ли например сочетание подлежащего и сказуемого универсалией для всех языков или всё же факт вбирания сказуемого в подлежащее в одних языках и подлежащего в сказуемое в других оставляет схеме «подлежащее — сказуемое» роль отвлеченного мыслительного конструкта, который конечно годится на роль универсалии только при условии препарирования соответствующих лингвистических реалий. Эта опасность — оказаться продуктами нашего представления — нависает над всеми универсалиями. Они и без того обескураживающе скудны. Похоже, язык можно изготовить из чего угодно, к его материалу не предъявляется почти никаких специальных требований. У языка нет физиологически обязательных констант. Скажем, может показаться, что все языки (универсалия) образуют звуки на выдохе. Но оказывается что звуки образуются и на вдохе; так современные парижане произносят слово oui. Физиологические органы речи, если бы таковые существовали, навязали бы человечеству фонетические универсалии. Однако органов речи у человека в анатомическом смысле слова нет. Он применяет для речи части организма, первоначально созданные природой для других целей. В конечном счете «единственной языковой универсалией оказывается сам язык»