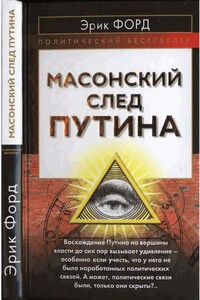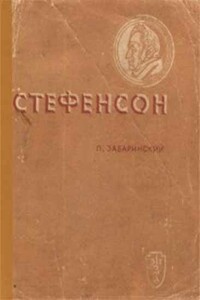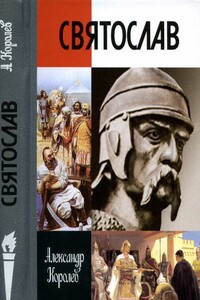Мой тесть Леонид Брежнев | страница 6
Вот только один штрих. Когда мне в Лефортове стало совсем худо, когда по намекам Гдляна, Иванова и полковника Миртова я понял, что меня могут расстрелять, для этого, как говорится, все готово, когда уже не было никаких сомнений, что «кремлевско-узбекское дело» превращено Гдляном и Ивановым в грандиозный политический спектакль, я не выдержал, и, выбрав удобный момент, обратился с устной просьбой к начальнику изолятора (такие просьбы на бумаге не фиксируются) о встрече с Председателем КГБ СССР генералом армии Виктором Михайловичем Чебриковым. Я сказал начальнику: «По личному вопросу». Странно, наверное, но моя просьба была исполнена.
Меня вызвали через несколько дней, вид у сопровождающих прапорщиков был перепуганный, кажется, я и руки за спиной не держал, они за мной не следили, им было не до того. Мне посоветовали получше одеться, я эти рекомендации выполнил как мог, и вот когда я вошел в кабинет начальника следственного изолятора, за его столом сидел Чебриков. Мы за руку поздоровались, он представил мне второго человека, которой был с ним, сказал, что это его помощник по Политбюро. Была и такая должность. Началась беседа. Чебриков поинтересовался, нет ли с моей стороны жалоб на содержание или питание, их не оказалось, хотя на питание в Лефортове (да и в других изоляторах КГБ) полагается 47 копеек в сутки — каша и супы, вот и все питание. Больным людям, сердечникам и язвенникам, иногда дают немножко масла и отварного мяса, а все остальное, то есть конкретно: печенье, белый хлеб, какие-то самые банальные продукты, а также сигареты и мыло можно приобретать в тюремном магазине на 10 рублей в месяц, не больше. Мне запретили получать передачи из дома. (Гдлян говорил, что какие-то партийные функционеры, особенно узбеки, хотят меня отравить). Но Чебрикову я не жаловался. Я сразу спросил его о другом: «Виктор Михайлович, вы меня знаете, я вас знаю, скажите честно — кому и зачем понадобился весь этот спектакль? Что происходит?» Чебриков спокойно, глядя мне в глаза, ответил: «Юрий Михайлович, ваш арест обсуждался на Политбюро». И довольно выразительно на меня посмотрел. Тут я все понял. Это Политбюро, а не Прокуратура СССР, решало, быть мне заключенным или не быть. Если мне не изменяет память, Чебриков сказал, что среди членов Политбюро даже было голосование по этому вопросу.
Вот когда я сломался. Стало ясно, что любое сопротивление не имеет смысла, ибо мой арест — это заранее спланированная политическая акция и что судить, собственно говоря, собираются не меня. Я оказался прав. Это был суд над Леонидом Ильичом Брежневым. Так подтверждалась «перестройка».