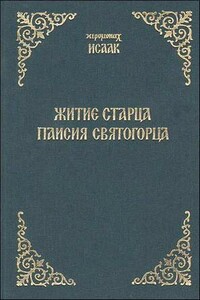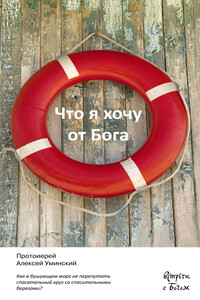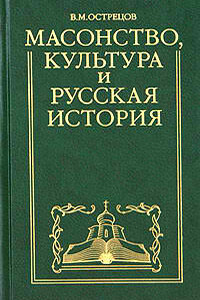Традиция. Догмат. Обряд | страница 7
Так что же именно передавалось от учителя к ученику в ходе проповеди и научения? “Главной целью было воспроизводство не текста, но личности учителя, новое, духовное рождение от него ученика. Именно это — живая личность учителя как духовного существа — и было тем содержанием, которое передавалось из поколения в поколение,” — резюмирует В. С. Семенцов.[13]
Итак, рождение — вот то слово, которое вбирает в себя и неслыханную новизну переворота, происходящего в человеке, принимающего в себя новый опыт бытия, и ту неавтоматичность и негарантированность передачи духовного опыта, которая слишком хорошо видна и в истории Церкви, и в ее сегодняшнем дне. И если мы говорили о том, что, входя в Традицию, человек становится таким, каким он еще не был, то в своем максимальном выражении это и есть не что иное, как перевоплощение: “Стать тем, чем не был — своего рода смерть и рождение” (блаженный Августин[14]).
Рождение бесконечно далеко отстоит от просто научения. Здесь мы видим не ученика, конспектирующего лекцию профессора, а послушника, живущего вместе с духовным учителем и впитывающего в себя его образ душевного устроения. Когда Лев Толстой в Оптиной недоуменно спрашивал Константина Леонтьева, как он, образованный человек, мог поверить, тот ответил просто — “Поживи здесь, так сам уверуешь.”[15]
В монастыре у старца действительно надо жить, а не просто обращаться к нему как в справочную службу. Вот одно драгоценное свидетельство о встрече с “батюшкой”: “Когда, кончив молитву, батюшка благословил меня и начал говорить, всем сердцем я стал внимать ему, но не словам, а тому новому и необычному, что рождалось в душе в его присутствии, что обновляло, возрождало, делало сильным” (Это — о московском духовнике отце Алексии Мечеве).[16]
Рождение не может произойти само собой, “просто так.” И не случайно в христианской литературе время от времени прорывается признание: “мы страдали, рождая тебя покаянием, мы породили тебя великим терпением, сильною болью и ежедневными слезами, хотя ты ничего об этом не знал. Иди сюда, мое чадо, я отведу тебя к Богу.” Так пишет преподобный Симеон Новый Богослов своему духовному сыну. Является ли кощунством сказать такому духовнику — “отче!”? Протестанты запрещают называть пастырей этим словом. Что ж, — “они никогда, наверное, в своей жизни не знали людей, которых знали мы, никто не показал им в живом дыхании — что такое Святая Церковь, никто не прижимал их голову к своей груди, на которой холодок старенькой епитрахили, никто не говорил им: “чадо мое родное” — этих огнеобразных слов, от которых тает все неверие, и что еще удивительнее — все грехи.”