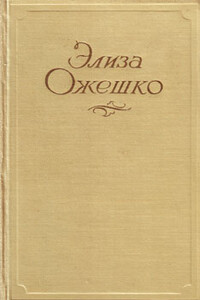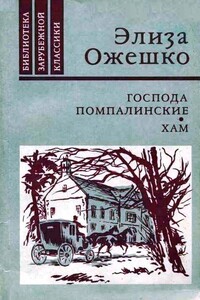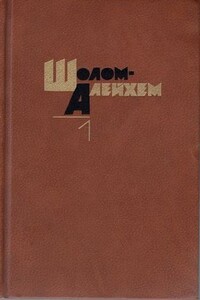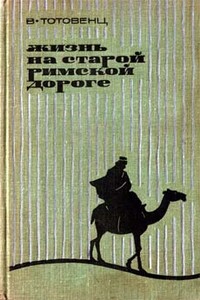Ведьма | страница 26
— Известно, бабка у ней ведьма, только и думает, чтобы людям бед наделать.
Но Степан вскоре женился на девушке из соседнего села, и людские пересуды о Петрусе прекратились. Ее видели редко. Иногда только девушки из Сухой Долины, идя со жнивья или сенокоса домой, встречали ее, возвращавшуюся с работы с серпом или граблями. Проходя мимо девушки, которой уже перевалило за двадцать лет, они начинали петь, обращаясь как будто к себе, а в сущности имея в виду ее:
Иногда кто-нибудь из старых знакомых, встретив ее, сочувственно качал головой или же шутил:
— А что, скоро твой Ковальчук вернется?
Он вернулся, хотя и нескоро; это было ему необходимо, так как невдалеке от деревни были доставшиеся ему после отца наследственная земля и изба, в которой все это время хозяйничал какой-то чужой человек, арендатор. В один прекрасный день разнеслась по деревне весть о том, что Ковальчук вернулся со службы и приводит в порядок свои дела с арендатором. А вечером, когда в корчме разговаривали, пили и танцовали множество людей, он и сам явился туда, но настолько изменившийся, что его едва узнали. Когда он уходил из деревни, он был худой, невзрачный, больше походил на подрастающего парня, чем на красивого мужчину, и одевался, как и все мужики в Сухой Долине, в суконную сермягу или кафтан из синего или красного холста. А теперь совсем не то. Годы военных упражнений и маршировки расширили его плечи и грудь, а лицо, прежде бледное, залили сильным, здоровым загаром; он возмужал и выпрямился; черные усы покрывали его верхнюю губу; глаза смотрели смело и умно; на нем были не сермяга и не кафтан, а темный суконный сюртук, хорошие сапоги на ногах, а на шее яркий платок. В этом наряде, с папиросой в зубах, явился он в корчму и в ответ на возгласы удивления и приветствия, посыпавшиеся со всех сторон, стал всех узнавать и со всеми здороваться. Заметно было, что он много видел, поумнел, сделался обходительнее, но тем не менее с радостью возвратился в свою деревушку. Прежним знакомым он поставил четверть водки и сам выпил шкалика два, но больше не хотел ни за что. Курил папиросы, рассуждал, рассказывал о широком свете и, вмешавшись в толпу танцующих, с таким ожесточением и ловкостью отплясывал с девушками «мятелицу» и «круцеля», как будто никогда не уезжал из деревни.
В корчме поднимались такие тучи пыли, что в них с трудом можно было различить тяжелые фигуры танцовавших парней и пестрые наряды девушек. Но Ковальчука каждый мог тотчас отличить в этой толпе, вертевшейся в облаке густой пыли, не только по темному сюртуку и яркому платку на шее, но главным образом по ловкости и гибкости движений. Никто так оживленно не выкрикивал среди танца: гу, га! Никто с такой размашистой грацией не водил по комнате свою тяжело дышащую танцорку после нескольких оборотов «мятелицы».