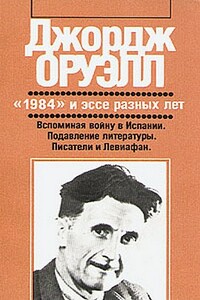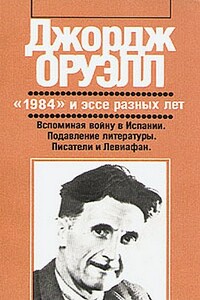Сохранять достоинство | страница 78
Впрочем, надо признать, что в этих обстоятельствах нас прямо-таки утешили некоторые французские газеты. Когда видишь, как с каждой неделей множится число фашистских самолетов, благословляемых архиепископом Пальмы, как некогда мирные берега ощетиниваются батареями, когда слышишь, как офицеры итальянского флота в кафе похваляются перед всеми бомбардировками Малаги, забавно читать на своем родном языке монотонные доносы прессы, засевшей на каждом вокзале вдоль пиренейской границы, приникшей к глазкам сортиров, лихорадочно заносящей пометки на бумагу этих заведений общего пользования. В продолжение семи месяцев ни разу — ни разу в продолжение семи месяцев — ни малейшего намека на неудачи итальянцев или немцев, ни разу, ни единого разу! Надо же! Вот люди, которые часто были несогласны между собой: НФП, СФП, А.Ф., ФС, ПМ, ЛФП[118]. а начиная с кампании в Абиссинии — вдруг все едины, все солидарны, солидарны с новой Империей! Цитаты из статей этих патриотов так хорошо ложатся в статьи итальянских и испанских публицистов, что можно счесть их скроенными по одной мерке, странно… А ведь нет ни одного француза, который, побывав более полугода по ту сторону Пиренеев, не знал о вековой ненависти испанских правых, особенно армии и духовенства, по отношению к нашей стране. Эта ненависть неоднократно проявлялась и в ходе войны. «Только чернь и я любим Францию», — говорил Альфонс XIII[119]. Я не знаю, чего стоит национальное пораженчество националистов внутри наших границ. Думаю, что самый озлобленный из этих господ покраснел бы от презрительных комментариев, которыми пропаганда сдабривает свою прозу… Я до сих пор слышу слова того майора, который однажды вечером в Манакоре, под канонаду республиканского крейсера «Либертад», наивно полагая, что доставит мне этим удовольствие, сказал на плохом французском, но с оттенком мужского и братского утешения: «Что поделаешь, мсье, наши страны — это две такие завзятые мерзавки!» (Сам он был каталонец.)
Я оставался на Мальорке так долго, как мог, потому что там я смотрел в лицо врагам моей страны. Это смиренное свидетельство было по-своему ценным, поскольку, не имея никаких связей с местными или иными красными, известный всем как католик и роялист, я представлял (как бы мало я сам по себе ни значил!) вечную Францию, которая пережила Арманьяков и Бургиньонов[120], сторонников Лиги и гугенотов, всяческие, по-разному нелепые «фронты», ибо она обладает верным и независимым инстинктом и имеет лишь один очаг, свой дом, Дом Франции, переступив порог которого все мы становимся равными, детьми одной матери. Не в обиду будь сказано глупцам, Францию будут презирать в мире только тогда, когда она сама потеряет уважение к себе. Каждый, кто говорит не как политик, а как француз, знает, что всегда будет понят. Всем в Пальме было известно, что мой сын был лейтенантом фаланги, меня часто видели у мессы. С инсургентами, которых боялись подозреваемые, меня связывала давняя дружба. Отчего же малознакомые люди говорили со мной вполне откровенно, хотя малейшее проявление нескромности с моей стороны могло стоить им свободы или жизни? Что ж, я отвечу, как думаю: во всем мире еще знают, что француз прислужником полиции не бывает, вот и все, что француз — свободный человек. Подпевалы генерала Франко, вероятно, никогда не задумывались об этом.