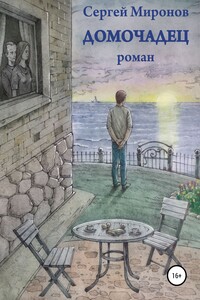Чума | страница 30
Словом, отношения у них складывались стабильные — она подходила и задавала вопросы, он отвечал и ускользал. Нарушил эту гармонию слепой капээсэсник. Все трусливы или подкуплены буржуазией — одни большевики молодцы (повторять не поднимая глаз), — хорошо, «Юность» разъяснила Вите, что это аллигаторское догматическое обличье скрывает от народа настоящих коммунистов, которые горят в топках и гордо идут на расстрел. Или, держась чересчур прямо, в стиляжных темных очках, с невесомой белой камышинкой в руке, задевши плечом о косяк, бережно входят в аудиторию читать лекции по истории партии — желтоватая, словно прокуренная, седина бывшего блондина величава и даже начальственна, а под нею — аж живот втягивается от морозного дуновения — нечто глянцево-розовое, как вывернутые губы, на фоне чего в настоящих губах можно заметить розовый оттенок разве лишь по контрасту с белыми резиновыми нашлепками на щеках; в отдельных местах бензиновой пленкой на мокром асфальте кожа еще и переливается из синего в зеленый — от Вити потребовались неоднократные тренировки, чтобы отрывать от них взгляд с первой попытки. Притом изначально черты капээсэсника были благородные, с мягкой орлиностью, и только из-за выеденных огнем ноздрей казались хищными.
Однако вызывал капээсэсник лишь содрогание, но не страх — на его лекциях опоздавшие на первую пару скапливались под дверью, а затем с напряженными улыбками, на цыпочках просачивались через дверную щель. Как-то и Витя за компанию просочился — что он, лучше других? Но укоризненная картинка с тех пор в глазах маячила: благородный хищный профиль с сине-зелеными разводами — и они, блудливым гуськом… Однако, когда Витя покорно скучал на комсомольском собрании потока, ему было совершенно не до того: он испытывал исключительно неловкость и смутное сострадание к их поточному секретарю, который, восстав за лекторской кафедрой, в данный момент трибуной, уподобляясь несчастным «мочалкам», обменивал самое дорогое, что есть у юности, — возможность повоображать о себе, пока аллигатор отвлекся, — на добровольное «устройство» в его желудке. Бедный комсомольский вожак еще и старался как-то скрасить для себя все эти аллигаторские сигналы не подымать глаз, все эти «дальнейшие улучшения» и «решения съезда в жизнь» неким сдержанным рокотком, как будто в глубине души они его страшно волновали и лишь целомудрие не позволяло ему греметь и взывать. И совсем уж жалко он цеплялся за соломинку своей устарело-плакатной мужественности — в духе не «Юности», а «Правды»: суровые толстые губы, сдвинутые, каждая в мизинец, брови, распяленный на широких костлявых плечах грубый свитер, намекающий на что-то рыбацкое, шкиперское, да только совсем уж конфузное без сейнера, плота или хоть уж котлована-самосвала на заднем плане. Факультетский секретарь за лекторским, в данный момент председательским, столом смотрелся и то более честно — канцелярская крыса так канцелярская крыса: с виду ровесник Витиного отца, в таком же немарком костюмчике и галстучке, словно в честь какой-то ими одними хранимой традиции, он многозначительно вертел в пальцах неочиненный граненый карандаш, какими давным-давно уже никто не пишет, и время от времени строго им постукивал. Однако в целом народ здесь и без стука знал, какой уровень гудения еще пребывает в пределах дозволенного, — отпетые на собраниях не появлялись. Поэтому аудитория замерла прежде всего от неприличия, когда после мужественно-сдержанного призыва хранить моральный облик советского студента зазвенел искренний Анин голос: открытый пафос на комсомольском собрании такого уровня фальши даже главный оратор себе не позволял (другое дело где-то там, за морями, за лесами, все равно существовала настоящая комсомолия…).