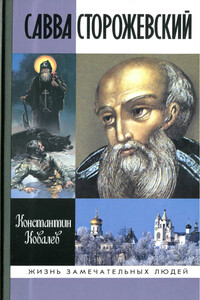И возвращается ветер... | страница 60
К старой учительнице русского языка был у нас подход совершенно особый. Она была уже глубокой старухой, глуховатой, сентиментальной, и обожала птиц. Поэтому, как только начинался урок, кто-нибудь из нас начинал, аккуратно так, посвистывать по-птичьи. «Ах, — умилялась она, — скоро весна, детки, птички поют». Какое там весна, дура старая, — на дворе декабрь! Но это было только начало. Тотчас же кто-нибудь другой заявлял под птичий пересвист: «А я рогатку сделаю и буду их стрелять». Тут же русский язык и кончался — начиналась лекция о птичках: какие они полезные да как нехорошо их убивать. И удивительно, не надоедало нам каждый день слушать эти птичьи лекции. Главное же — урок проходил, никого не спрашивали, домашних заданий не проверяли.
Большинство же учителей были жестокими, бездушными машинами, беспощадно нас притеснявшими. Лучший пример — сам директор, здоровенный двухметровый детина. Он даже старшеклассников, ребят по 16–17 лет, бил по лицу публично, а уж младших-то затаскивал к себе в кабинет и там расправлялся нещадно. И все терпели — здоровые ребята сносили публичные пощечины. Только мы не стерпели, и, когда он побил кого-то из нашего класса, мы, человек пятнадцать, зашли к нему в кабинет после уроков, когда в школе почти никого не осталось. Было нам лет по 14, а некоторым и больше, страха мы не ведали, вид у нас был весьма внушительный. Мы очень быстро отключили телефон, когда он попытался вызвать милицию, и объяснили, что легко отключим и его самого, если он еще кого-нибудь из нас тронет. Поверить в это, зная тогдашнюю московскую атмосферу, было нетрудно. Он как-то сник и с тех пор обходил нас стороной.
Пожалуй, единственный человек, пользовавшийся у всех ребят уважением, был преподаватель английского языка. Это был человек небольшого роста, со шрамом на лбу и удивительным умением внушать страх. Одевался он чрезвычайно плохо и, видимо, сильно нуждался. Вообще было в нем что-то трагическое. Говорили, что он был ранен на фронте и вроде даже в плену побывал. Во всяком случае, зрение у него было повреждено как-то странно: видеть он мог или совсем вблизи, буквально водя носом по странице, или вдали, в конце класса. Середины же не видел — это проверялось много раз, но никто не осмеливался пользоваться его слабостью. Он входил в класс стремительно, как-то боком, на ходу открывая журнал: «Whom shall I ask, whom shall I ask, whom shall I ask at first», — говорил он зловеще, двигая носом по журналу, и наступала гробовая тишина. «Мамочки, только б не меня!» — молился каждый. И ведь никого не бил, а все учились, даже самые ленивые, даже второгодники. Он был какой-то загадочный и оттого страшный.