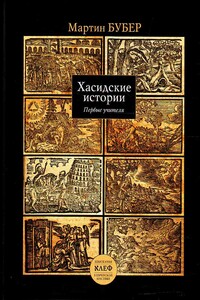Затмение Бога | страница 37
Из этих 2-х философов, которые вновь подхватили слова Ницше о смерти Бога, первый, Сартр, со своим постулатом свободного обнаружения смысла и ценности, довел и эти слова, и себя самого до абсурда. Мысль другого, Хайдеггера, о возрождении Бога из мышления истины попала в неодолимо притягательную для нас западню времени. Представляется, что здесь и теряется след экзистенциализма.
В отличие от Хайдеггера и Сартра Юнг, ведущий психолог нашего времени, сделал религию в ее ис-торическом и биографическом аспектах объектом тщательного наблюдения. Ему не может быть поста-влено в упрек то, что в эти наблюдения было вовлечено много такого, что я должен назвать псевдоре-лигиозным, поскольку там отсутствует свидетельство личной сущностной связи с чем-то постигаемым или удостоверяемым верой в качестве безусловного "напротив". Психология, чьи обозначенные им же самим границы Юнг с полным основанием не желает переступать, не дает никакого критерия качественного различия между той и другой областью, хотя бы такого незначительного, как в социологии, где Максу Веберу удалось бы провести различие между харизмами, скажем Моисея и Гитлера. Скорее Юнга следует упрекнуть в том, что при рассмотрении религиозного, как такового, он в существенных моментах с необычайной легкостью выходит за рамки психологии, причем чаще всего сам этого не замечает, так что и речи не может быть о том, чтобы он как-то это обосновывал.
Разумеется, у Юнга нет недостатка в строго психологических высказываниях о религиозных предме-тах, зачастую он даже категорически подчеркивает ограниченную значимость таких высказываний, на-пример, когда откровение истолковывается через "раскрытие человеческой души, первоначально исхо-дя из психологического модуса", но "при этом, разумеется, вовсе не произносится окончательных суж-дений относительно того, чем еще оно могло являться". Иной раз с самого начала объявляется, что "следует избегать всяких высказываний относительно трансцендентного", поскольку они всегда являют-ся "одной лишь претензией человеческого духа, не сознающего своей ограниченности". Так что если Бога называют состоянием человеческой души, то при этом "высказывается нечто лишь о познавае-мом, но не о непознаваемом, о котором (здесь вновь повторяется только что приведенная мысль) во-обще не может быть произнесено никакого суждения". В таких высказываниях находит отражение впол-не законная позиция психологии, которая, как и всякая наука, уполномочена произносить объективно обоснованные суждения, не теряя при этом из виду свои границы, переступать которые ей не следует.