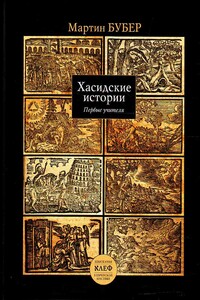Затмение Бога | страница 31
О том, к чему нас хочет привести Сартр, он сам высказывается достаточно отчетливо: "Сегодня, как и вчера, это молчание трансцендентного, связанное с продолжающей существовать в современном че-ловеке религиозной потребностью, представляет насущнейшую проблему. Вот вопрос, доставляющий мучения Ницше, Хайдеггеру и Ясперсу". Иными словами: экзистенциализм должен обрести мужество, он должен упразднить несвоевременную религиозную потребность, должен окончательно отказаться от богоискательства, должен "забыть" Бога. Человек должен, наконец, после длившегося столетия кризи-са как веры, так и науки вновь обрести творческую свободу, которую он некогда передал Богу, и приз-нать себя в качестве сущности, явление которой обусловливает существование мира. "Ибо, — говорит Сартр, — не существует иного универсума помимо человеческого, универсума человеческой субъектив-ности". Высказывание, которое я только что привел, звучит как постулат возрождаемого идеализма.
Проблема, "доставляющая мучения" экзистенциалистским мыслителям нашей эпохи, — так как они не отмахиваются от нее, подобно Сартру, — залегает глубже, нежели то представляется ему. В конечном счете речь идет о вопросе, не указывает ли упорство "религиозной потребности" на нечто внутренне присущее человеческой природе. Действительно ли, как полагает Сартр, экзистенция означает бытие "для себя", замкнутость в собственной субъективности? А не есть ли это, в сущности, бытие лицом к лицу с X, причем не с таким X, вместо которого возможно подставить определенную величину, но с X просто, неопределенным и неисследимым? "Бог, — говорит Сартр, — это квинтэссенция другого". Другой же для Сартра — это тот, кто на меня "взирает", кто делает меня своим объектом, как я делаю его. Поня-тие Бога он также рассматривает как понятие такого неустранимого свидетеля, а если это так, "зачем нам Бог? Достаточно другого, какого угодно другого". Но что, если Бог есть не квинтэссенция другого, но его абсолют? И между мной и другим в качестве первичных господствуют не отношения субъекта и объекта, но взаимные отношения Я и Ты? Всякий эмпирический другой, разумеется, не остается для меня Ты; он превращает меня в Оно, в предмет, как и я его. Не то в отношении абсолютного другого, моего абсолютного Напротив, неопределенного и неисследимого X, которого я называю Богом: сам Бог никогда не может сделать меня предметом; я не могу обрести к нему никакого другого отношения, нежели отношение Я к его извечному Ты, отношение Ты к его извечному Я. Когда же человек более не в состоянии достичь такого именно отношения, когда Бог для него молчит, а он замолкает для Бога, тогда, значит, что-то произошло, произошло не в человеческой субъективности, но в самом бытии. Однако в таком случае было бы куда достойнее уяснять происшедшее самим себе не в громогласных и некомпетентных высказываниях, таких, как о "смерти" Бога, но смириться с происшедшим, как оно есть, и тут же в экзистенциальном смысле перейти к другому положению дел, к новому повороту в бытии, к новому озвучиванию слова между небом и землей, — наперекор своей собственной смерти. И упорное нежелание исчезать со стороны "религиозной потребности", вызывающее нарекания Сартра, поскольку, как кажется ему, оно противоречит молчанию трансцендентного, скорее указывает на то, что это молчание воспринимается человеком именно как молчание.