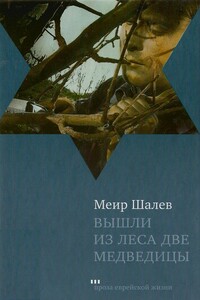Эсав | страница 133
Лея тоже занималась всякого рода коллекционированием. Я, право, сам не понимаю, как получилось, что в моей жизни собралось столько коллекционеров. Отец с его родственниками, Дудуч с ее сосунками, Ихиель с книгами своего отца. Иногда мне кажется, что Роми тоже коллекционер. Она распинает портреты своих жертв на частицах серебра и света и выставляет их в клетках застекленных рамок, подобно своей матери, Лее, в те далекие дни. Лея коллекционировала засушенные цветы и марки, салфетки и кукол, а также открытки, которые ее отец посылал ей со всех концов света. В отличие от Ихиеля Абрамсона, который прятал свое собрание «последних слов» от чужих глаз, она любила приглашать подруг и показывать им свои коллекции и умела делать это так, что ни одна из них не чувствовала зависти — даже при виде фотографии артиста Джона Гильберта, пришедшей из-за границы с его собственноручной подписью, сверкающей на полях.
Подруги наперебой рассказывали, что Леины коллекции рассортированы по сотням маленьких гладких ящичков из дерева и стекла и что она наслаждается многими другими преимуществами единственного ребенка богатых родителей, а не только тем, что у нее есть наказанный и изгнанный отец, из которого чувство вины истекало струей подарков. У нее, например, была своя собственная комната, на крыше, а в ней свой собственный шкаф, для одежды, а в шкафу—множество кофточек и юбок и даже несколько костюмов от «Илки», в карманы которых были вложены сухо шелестящие тряпичные мешочки с розмарином и лавандой. Сейчас, у ее постели, Яков показывает мне остатки той ее старой коллекции бабочек, с давно выцветшими крыльями, и надтреснутым голосом спрашивает: «Но ты-то помнишь, какая она была тогда? Ты-то помнишь?» Уже тогда он утверждал, что, когда она распинает своих бабочек на булавках, те вздыхают с благодарностью за то, что она сочла их достойными внимания, — и я знаю, какие мысли проносятся сейчас в твоей голове. Ты ошибаешься. Я отнюдь не коллекционер. Я ничего не собираю — ни воспоминаний, ни цитат, ни фактов. Они собираются во мне против моей воли. Точно так же, как боли отца, как страдания Якова, как фотографии Роми, как все те женщины, которых чья-то рука собрала в мою жизнь, сняв их весною по виноградинке, сорвав летом по яблочку, скосив по осеннему колоску.
За окнами была на исходе весна, лето пришло раньше срока, июльский зной царил уже в начале мая. В пекарне время свершало свой неуклонный круговорот. В библиотеке Ихиель показал мне фотографию дирижабля «Гинденбург», вспыхнувшего на якоре, и прочел статью из «Нью-Йорк таймс» о комиссии Пиля — чтобы я познакомился также с «газетным английским» — а когда я спросил его, почему он не женится, засмеялся и процитировал два афоризма Роберта Луиса Стивенсона: «Супружеская жизнь — это длинная и пыльная дорога, ведущая нас прямиком к смерти» и «Самая жестокая ложь произносится молча». Один из них я понял уже тогда, а другой не понимаю и сегодня.