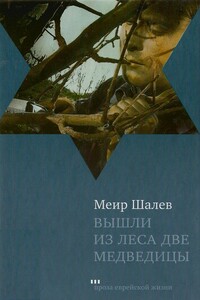Эсав | страница 123
Она бродила по дому, согнувшись и охая, и однажды произошел эпизод, в который я и сегодня затрудняюсь поверить. Мать заперлась с ней в комнате и, повинуясь той, вызывающей неловкость, женской солидарности, которая недоступна мужскому пониманию, попыталась сама высосать у нее молоко, но безуспешно. Дудуч нуждалась в языке и деснах ребенка. И вот, сидя за семейным столом, она вдруг обнажила грудь странным и трогательным жестом, в котором были одновременно и великодушие, и безмолвная мольба.
Набухшая, одинокая и смущенная, пугающая своим сиротством и великолепием, эта левая грудь моей тетки вторгается сейчас в мою память и освещает комнату изяществом, свежестью и тоской по своей отсеченной близняшке. Время сделало моего отца стариком. Моего брата — мужчиной. Мою мать — мертвой. Меня… чем оно сделало меня? Только грудь Дудуч осталась такой, как была, сохраненная в янтаре ее юности. «Как фотография второй груди», — объясняла мне Роми.
— Бар-минан! — Отец торопливо опустил глаза, и его подбородок затрясся от гнева. — Боже праведный! Что ты делаешь?! Тут большие дети!
Мы с Яковом, уже прошедшие к тому времени бар-мицву и начавшие отращивать первые признаки усов, уставились на этот шелковистый холм округлившимися глазами и с пересохшим нёбом. Яков не удержался, протянул руку и потрогал его кончиками пальцев. Отец ударил его по руке и закричал:
— Сгинь уже отсюда, шлюха, путана!
— Оставь Дудуч, бандит! — Мать встала рядом со стулом Дудуч. — Ты ничего не понял? Она не хочет мужчину, она хочет ребенка.
Ее большая рука вспорхнула над волосами, потерявшими свой иссиня-черный сарояновский блеск, проследовала по линиям вечного изумления, прорезанным в лице, на мгновение накрыла, как сводом, пустую глазницу, потом погладила шею, спустилась к бутону соска, который выглядел, как нарисованный фиолетовой кистью, и прикрыла наготу невестки полой платья.
Тия Дудуч задрожала, положила голову на бедро матери, и темное влажное пятно расплылось на ткани ее платья.
— Ибрагим, что ты делаешь, Ибрагим? — простонала она.
Отец содрогнулся от ярости, выбежал из комнаты, и Яков сказал: «Ну, теперь он наверняка будет орать в свою печь», — но он тут же вернулся, повязав голову белым платком, смоченным в араке, дабы продемонстрировать всем, что его постигла долор де кабеса[67] — его нервы больше не выдерживают, пусть все немедленно убираются с глаз долой и оставят его в покое.
Не одна только Дудуч позорила его. Никто из нас не казался ему достаточно хорош. Мать была ненавистна из-за своего поведения, происхождения и вида; Яков был «сыном упрямым и непокорным»; я хоть и был спокоен и вежлив, но уже тогда ушел в свои смутные миры, и отец первым понял, что от меня не снизойдет на него спасение.