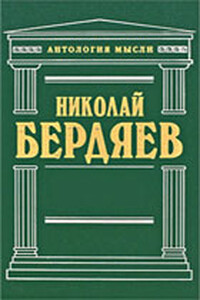Творчество и объективация. Опыт эсхатологической метафизики | страница 99
Метафизический и гносеологический смысл конца мира и истории означает конец объектного бытия, преодоление объективации. Это есть вместе с тем снятие противоположности между субъектом и объектом. Индусская религиозная философия хотела стать по ту сторону противоположения субъекта и объекта, и в этом была её правда. Но это совсем не было связано с историей и с опытом человеческого творчества, и в этом была ограниченность этой философии. Конец означает также победу экзистенциального времени над временем историческим и космическим. Только в экзистенциальном времени, измеряемом напряженностью и интенсивностью состояний субъекта, может открыться выход к вечности. Во времени историческом и космическом нельзя мыслить конца, оно находится во власти дурной бесконечности. С этим связана основная антиномия конца. С философской точки зрения парадокс времени делает очень трудным истолкование Апокалипсиса как книги о конце. Нельзя мыслить конца мира в историческом времени по сю сторону истории, т. е. нельзя объективировать конца. И вместе с тем нельзя мыслить конец мира совершенно вне истории, как исключительно потустороннее событие. Это есть антиномия кантовского типа. Времени больше не будет, не будет объективированного времени этого мира. Но конец времени не может быть во времени. Все происходит не в будущем, которое есть разорванная часть нашего времени. Но это значит, что все это происходит в экзистенциальном времени. Это есть переход от объектности существования к субъектности существования, переход к духовности. Человек как нумен в начале, и человек как нумен в конце. Но он изживает судьбу свою в мире феноменальном. То, что мы называем концом, проецируя его во внешнюю сферу, есть экзистенциальный опыт касания нуменального, и нуменального в его конфликте с феноменальным. Это не есть опыт развития, это есть опыт потрясения, катастрофы в личном и историческом существовании. При объектности мира, при падшести человеческого существования конец представляется фатумом, тяготеющим над греховным миром и человеком, прежде всего страшным судом. В конце есть неотвратимый момент суда совести, которая есть как бы голос Божий в человеке. Но в конце есть и наступление царства Божьего. И тут есть антиномия, связанная со свободой. Конец есть не только дело божественного фатума (самое словосочетание плохое), но и дело человеческой свободы. Это — не меньшая антиномия, чем антиномия, связанная со временем. Отсюда — гениальное прозрение Н. Федорова об условности апокалипсических пророчеств.