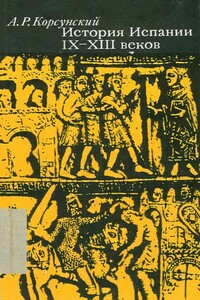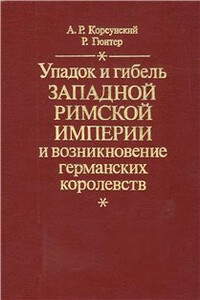Готская Испания | страница 67
Вообще отпуск на свободу считался богоугодным делом[602], хотя сама церковь строго контролировала и ограничивала освобождение рабов епископами, а аббатам и монахам вовсе запрещала делать это[603]. Церковь охраняла вольность и имущество либертинов, которые были ей коммендированы их прежними господами[604].
Законы вестготских королей и акты церковных соборов уделяют много внимания правилам освобождения сервов и юридическому статусу либертинов.
О положении готских вольноотпущенников в V в. нет сведений — в законах Эйриха они просто не упоминаются. Но, судя по более поздним источникам, к началу VI в. оно, в общем, было таким же, как у испано-римских либертинов. И самые способы освобождения рабов здесь те же, что и у римлян: по письму, по завещанию, при свидетелях, в церкви, в присутствии священника[605]. Мотивами освобождения служили желание наградить верных рабов или совершить благочестивое дело[606]. Обычно при освобождении раб получал пекулий в собственность, но иногда вольноотпущенник не имел права отчуждать его без согласия прежнего господина. Часто либертину добавляли еще земли из господских владений, и он становился держателем, а в {123} большинстве случаев и клиентом своего старого хозяина[607].
Как видно из Бревиария Алариха, либертины вносили платежи своим патронам и выполняли повинности в их пользу. Для того, чтобы не нести таковых, в условиях освобождения должна была содержаться соответствующая оговорка[608]. Но и в этом случае либертин обязан был оказать поддержку бывшему господину, коль скоро тот впал в нужду[609].
Вольноотпущенник находился в некоторой зависимости от патрона и тогда, когда не являлся держателем его земли. Это особенно относилось к тем либертинам, которые именовались Latini. Согласно Бревиарию Алариха, они не могли оставлять свое имущество детям. После смерти такого вольноотпущенника оно становилось собственностью патрона[610]. Либертины, принадлежащие к разряду cives Romani, могли передавать свое достояние детям. Но если они умирали, будучи бездетными и не оставив завещания, то все их добро отходило к патронам