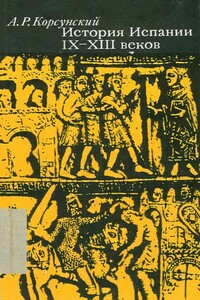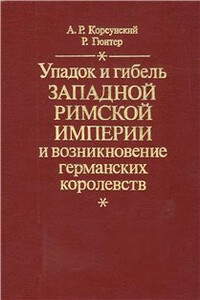Готская Испания | страница 62
Заботой о собственном, а не о господском хозяйстве объясняется, по-видимому, ряд правонарушений, которые совершались рабами без ведома их господ. Судя по Вестготской правде, сервы пасут свиней в чужом лесу, уклоняясь от уплаты десятины[546], крадут воду из оросительных каналов[547] и т. д.[548].
В конце V в. готское законодательство, подобно римскому праву, считало акты продажи, совершенные рабами, недействительными[549]. В конце VI в. это представление устаревает; хотя соответствующий закон Эйриха и не был еще формально отменен, однако, он не попал {113} в кодекс Леовигильда. В VII в. готское законодательство официально признало за сервами право заключать торговые сделки. Хиндасвинт отменил закон Эйриха о недействительности таковых и установил, что сервы вправе продавать движимое имущество из своего пекулия (например, скот) даже без согласия господина[550]. Более того — сервы фиска и церкви могли продавать лицам одинакового с ними статуса не только движимое имущество, но и землю[551].
Значительный интерес представляет изданный Хиндасвинтом закон, согласно которому сервы одного господина имели право приобретать недвижимое имущество постройки, земли и пр. в имениях других землевладельцев и жениться на их рабынях. Хозяин мог претендовать только на половину движимого имущества такого серва (вторая его половина была собственностью хозяина рабыни), но не на земли и постройки, находившиеся в чужом имении[552]. Еще в VI в. сервы без ведома своих господ участвовали в хозяйственных сделках со свободными. Сервы получали от третьих лиц в пользование рабочий скот[553], им предоставлялись ссуды. За сделанные им долги серв также расплачивался из {114} пекулия, правда, лишь после того, как выплачивал оброк господину[554].
В некоторых случаях сервы уплачивают теперь и денежные штрафы[555].
Таким образом, эволюция в экономическом положении вестготских сервов, наделенных землей, состоит в постепенном превращении их в собственников орудий производства и своего частного хозяйства. Такова во всяком случае ведущая тенденция происходивших в рассматриваемую эпоху изменений. Известно, что сочетание собственности непосредственных производителей, основанной на личном труде, с собственностью феодалов характерно для производственных отношений феодального общества.
Изменяется также и юридический статус рабов. Раб начинает рассматриваться как личность, а не instrumentum vocale. Уплата за убийство раба теряет характер возмещения его стоимости и по существу сближается с вергельдом. За случайное убийство чужого серва отныне нужно было уплатить половину той компенсации, которая полагалась за аналогичное по характеру убийство свободного человека