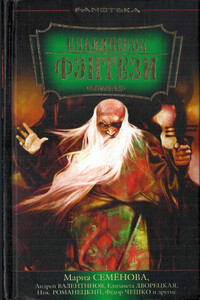Радуга (Мой далекий берег) | страница 11
Он укачивал государыню на коленях.
— Что ж ты спишь, не просыпаешься? Я шел к тебе через долы и горы. Три посоха железных истер, три пары башмаков железных истоптал… Ну пусть не железных, так еще хуже. С левого подковка потерялась, а правый пьет воду, как песок в Черте. Ну пусть я ветреный худой человек, пусть влюбляю женщин и бросаю их. Все равно жить без тебя не могу. Берег мой, прибежище мое…
Из-под ресниц Берегини выкатилась слеза.
4
— Жаль, снежку нет, — сползая с полка, простонал Лэти.
— А и в ручей, — Бокрин дернул стриженой головищей в сторону двери.
Они были вовсе не похожи, эти странные друзья. Худущий жилистый пограничник с опаленными Чертой лицом и руками — как в маске и перчатках из тонкой коричневой кожи, натянутых поверх молочно-белой своей, — с седыми волосами, обычно собранными в хвост на затылке, а сейчас, словно сосульки, висящими вдоль лица. И сельский колдун — Берегиня, точно подшутив, наградила даром, обычно передающимся «по веретену»[8]. Оттого и дичился Бокрин, жил вдали от поселка, где его особо и не привечали. Вид имел звероватый, стать медвежью; крепко прилегали к голове кучерявые жесткие волосы. И только глаза из-под низкого лба глядели добрые, серые, как небо в срок лебединого отлета. Одинаковые были у него и у пограничника Лэти глаза.
По холоду порысили мужчины к ручью, протекавшему под холмом, на котором банька стояла. Как раз на луке образовалась тихая заводь, куда они и свалились с плеском и уханьем, проломив ледок у берега. Порскнули в стороны ошалелые рыбки.
Роняя перемешанные с илом капли, мужчины галопом воротились в тепло, Бокрин плеснул на каменку из ковша, спугнув банника. Взвился пар. Лэти глухо закашлял.
— Терпи!
Бокрин повалил его на полок, принялся деловито охаживать дубовым веником. Не жалея и мест, где шрамы. Лэти только крякал. Раны, полученные в последнем бою у Черты, под приглядом Бокрина зажили совсем, можно и возвращаться, да только как об этом сказать.
— Да уж так и скажи, — прочитав его мысли, буркнул Бокрин. — Погоди только до Карачуна, чтоб не одному.
Лэти вывернулся из-под хлесткого веника:
— Твоя очередь. А погощу, пока Ястреб из Кромы не вернется. Вместе с… Тихо!
По-щенячьи скуля, ломанулся в банные двери здоровенный полуторагодовалый овчарище Грызь. Пахнуло холодом. Пес кинулся в ноги хозяину и заполошно завыл.
Снаружи было страшно. Небо, только вот яркое и чистое, затянуло тучами. Они ползли низкие, рваные, точно душили землю. Ветер налетал порывами, нес коричневую пыль, похожую на золу, подвывал и пересмешничал, драл крышу, колотил ветками одинокой груши-дички по банному окошечку. Першило в горле. Пригибаясь, едва не катком, спускались мужчины к дому. Вдруг Лэти ойкнул, точно обожженный изнутри: