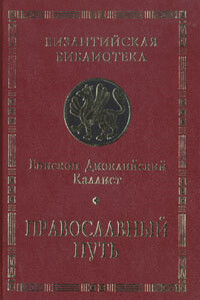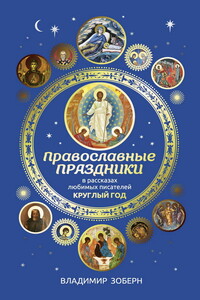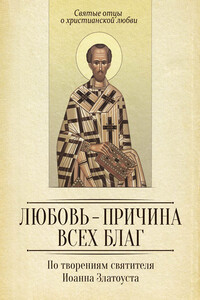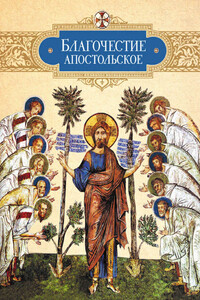Православная церковь | страница 73
Вторая часть синодального периода, XIX в., была эпохой не упадка, но великого возрождения Русской церкви. Народ отвратился от религиозных и псевдорелигиозных течений Запада и вновь повернулся лицом к истинным духовным истокам православия. Рука об руку с возрождением духовной жизни возвращался миссионерский энтузиазм, ибо как в богословии, так и в духовности православие освободилось наконец от рабского подражания Западу.
Это религиозное возрождение началось на горе Афон с трудов и свидетельства св. Паисия Величковского (1722–1794). Паисий был украинцем по рождению. Он учился в Киевской богословской академии, но его отталкивал светский тон преподавания, и Паисий отправился из Киева на Афон, где принял монашество. В 1763 г. он стал игуменом Нямецкого монастыря в Румынии. При Паисий монастырь превратился в крупный духовный центр, сосредоточивший более пятисот братьев. Под руководством игумена монахи занимались в основном переводами греческих отцов на славянский язык. На Афоне Паисий из первых рук узнал традицию исихазма и подружился со своим современником Никодимом. Паисию принадлежит славянский перевод «Добротолюбия», опубликованный в Москве в 1793 г. Особое значение Паисий придавал практике непрестанной молитвы — прежде всего Иисусовой молитвы, — а также послушанию старцу. Он испытал сильное влияние Нила и нестяжателей, но не упускал и того хорошего, что содержалось в учении иосифлян. Так, он уделял большее внимание, чем Нил, литургической молитве и социальной деятельности, пытаясь, подобно Сергию, сочетать мистический аспект монашеской жизни с телесным и социальным аспектами.
Сам Паисий так и не вернулся в Россию, но многие из его учеников ездили в нее из Румынии. Под их влиянием по всей России началось возрождение монашества. Существующие обители укрепились, было основано также много новых монастырей. Если в 1810 г. в стране насчитывалось 452 монастыря, то в 1914 г. их было уже 1025. Хотя это монашеское возрождение казалось чисто внешним и обращенным к служению миру, оно также восстанавливало в центре церковной жизни традиции нестяжателей, подавленные в XVI в. Особенно явно свидетельствует об этом расцвет практики духовного руководства. «Старец» был характерной фигурой во многие периоды православной истории, но XIX в. в России был веком старцев par excellence.
Первым и величайшим старцем XIX в. был св. Серафим Саровский (1759–1833). Из всех русских святых он, пожалуй, наиболее привлекателен для нехристиан. Вступив в Саровскую обитель девятнадцати лет от роду, Серафим прожил там первые шестнадцать лет как обычный монах. Следующие двадцать лет он провел в отшельничестве: сперва в лесной хижине, потом, когда ноги его распухли и он почти не мог ходить, — в монашеской келье. То было его приуготовление к старческому служению. Наконец в 1815 г. Серафим отворил двери своей кельи. С рассвета и до ночи он принимал всех, кто шел к нему за помощью: исцелял больных, давал советы, отвечая порой прежде, чем посетитель успевал задать вопрос. Иногда за один день он принимал сотни людей. Внешне жизненный путь Серафима Саровского напоминает жизнь Антония Египетского пятнадцатью столетиями ранее: тот же уход от мира с тем, чтобы вернуться. Серафим — несомненно, чисто русский святой; но в то же время он являет собой поразительный пример того, как много русское православие в его лучших чертах унаследовало от Византии и православной традиции в целом.