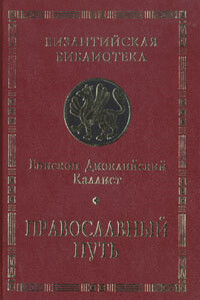Православная церковь | страница 24
В конце VI и VII вв. изоляцию Востока и Запада углубили аварское и славянское нашествия на Балканский полуостров. Иллирик, ранее служивший мостом между Византией и латинским миром, отныне стал преградой между ними. Следующий этап разделения связан с подъемом ислама: Средиземное море, которое римляне называли некогда mare nostrum («наше море»), теперь в значительной мере перешло под контроль арабов. Культурные контакты между восточным и западным Средиземноморьем никогда не прерывались полностью, однако стали гораздо более затрудненными.
Иконоборческая смута еще дальше продвинула процесс разделения Востока и Запада. Папы твердо отстаивали позиции иконопочитания и потому в течение долгих десятилетий пребывали вне общения с иконоборческим императором и Константинопольским патриархом. Будучи отрезанным от Византии, но нуждаясь в поддержке, папа Стефан в 754 г. отправился на север и посетил франкского правителя Пепина. Эта встреча ознаменовала первый шаг в решительной смене ориентации со стороны папства. До того Рим во многих отношениях оставался частью византийского мира, но теперь он все более подпадал под влияние франков, хотя последствия такой перемены вполне обнаружились только к середине XI в.
За визитом папы Стефана к Пепину последовало спустя пятьдесят лет гораздо более драматическое событие. На Рождество 800 г. папа Лев III короновал короля франков Карла Великого императорской короной. Карл пытался добиться признания от правителя Византии, однако успеха не имел. Византийцы все еще хранили верность принципу имперского единства, поэтому они рассматривали Карла Великого как узурпатора, а папскую коронацию — как акт раскола внутри империи. Создание на Западе Священной Римской империи вместо сплочения Европы имело следствием еще большее отчуждение Запада и Востока.
Культурное единство сохранялось, но в гораздо более ослабленном виде. И на Востоке, и на Западе образованные люди все еще жили внутри классической традиции, усвоенной и церковью, но с течением времени они начали интерпретировать эту традицию все более по–разному. Дело усугублялось языковой проблемой. Прошли те дни, когда образованные люди были двуязычными. К 450 г. очень немногие в Западной Европе могли читать по–гречески, а после 600 г. редко кто в Византии говорил на латыни, языке римлян, хотя империя продолжала называться Ромейской. Фотий, величайший константинопольский схоластик IX в. не умел читать по–латыни, а «ромейский» император Византии Михаил III в 864 г. даже назвал язык Вергилия «варварским и скифским наречием». Если греки хотели читать книги латинских авторов, а латиняне — сочинения греков, они могли сделать это лишь в переводе. Не смущали даже такие казусы: в XI в. выдающийся греческий ученый Михаил Пселл имел такие скудные знания в области латинской литературы, что путал Цезаря и Цицерона! Отныне греческий Восток и латинский Запад черпали из разных источников и читали разные книги, в результате все более отдаляясь друг от друга.