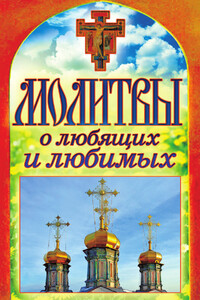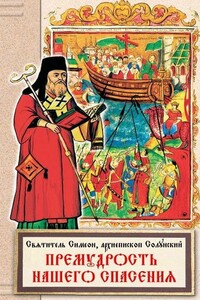Над Евангелием | страница 46
Господь далее развивает Свое духовное откровение. Он понемногу вводит его в соотношение с областью более высшею сравнительно с предшествующей. На первом плане уже противоположность не пищи телесной и духовной, а земного и небесного порядка вещей. Он говорит, что Он сошел с небес, чтобы исполнить волю Отца (38). Но вместе с откровением Бога открывается и душа человека; кругом слышится открытый ропот. Если только что Его не узрела грубая народная толпа (όχλος) со своими материальными стремлениями, то теперь поднимает голову сухой рационализм книжных Иудеев. Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: Я есть хлеб, сошедший с небес, и говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? как же говорит Он: Я сошел с небес? (41–42). Причина сомнений совершенно понятна. Иудеи твердо стоят на внешне логической почве; прилагают к Нему мерку чувственных представлений; слушают плотским умом, соображающим лишь извне являющееся, а не той духовной силой, которая обращена к Богу и воспринимает внутренние откровения неба. И на своем пути они рассуждают вполне последовательно. Они нигде не видели и не могут представить и понять, как Он, будучи человеком, мог сойти с небес? Но Господь Своею личностью и словами именно и подает им повод сойти с этого земного пути, поддаться небесному влиянию Отца и подняться в область веры, которая имеет свою высшую последовательность, и где кажущееся сейчас противоречием найдет свое полное и действительное примирение. Но они этим поводом не пользуются; а на той почве, па ко юрой они стоят, никакие сомнения и споры не могут приблизить их к Господу. Он видит это и говорит им: не ропщите между собою. Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня (43–44).
Наконец, Господь еще определеннее и точнее уясняет центральное и мистическое значение Своей личности (48–58). Воспроизведя вкоротке две предшествовавших ступени Своего откровения (48–49 и 50-51а), Он восходит ближе к сфере чувства и своими образами пытается найти отзвук духовной веры в сострадательном человеческом сердце. Он провозглашает, что отдает Свою плот за жизнь мира, и призывает через вкушение этой мировой жертвы к полному общению с Собой. Хлеб, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира (51). Но если материальная толпа и узкие книжники не восприняли Его предыдущих речей, то тем более они отшатнулись от усвоения последней. Кажется, чего бы проще: откликнуться сердцем на призыв великого Учителя, который возвещает им, что добровольно жертвует собой за них, и прильнуть к Нему, прежде всего и помимо всего, бескорыстной благодарной верой; тогда само собой пришло бы к ним и понимание Его таинственных сравнений. Однако книжники упорно остаются книжниками; они тут же прерывают Его речь своими казуистическими спорами, в которых одна бессердечная пигмейская погоня за внешней буквой.