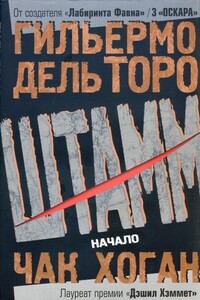Штамм. Закат | страница 61
Эта резьба была творением его рук. Он смастерил четыре такие трубки — вырезал их под Рождество 1942 года по приказу украинского вахмана: они предназначались для подарков.
Трубка затряслась в руках Сетракяна, когда он вообразил, как охранник Штребель сидит в этой самой комнате, окруженный кирпичами, взятыми из дома смерти, как он наслаждается табаком, и к потолку возносится тонкая струйка дыма, — и все это происходит именно в том месте, где ревело пламя в пылающей яме и смрад человеческих жертвоприношений так же устремлялся вверх, как вопль, обращенный к утратившим слух небесам.
Сетракян сжал трубку так, что она треснула, разломил ее пополам, бросил обломки на пол и принялся давить их каблуком, дрожа от ярости, подобной которой он не испытывал много месяцев.
А затем — также внезапно, как он обрушился, — приступ прошел. Сетракян снова обрел спокойствие.
Он вернулся в скромную кухоньку, где уже побывал ранее, зажег стоявшую там на столе одну-единственную свечу и разместил ее у окна, обращенного к лесу. Затем устроился у стола на стуле.
Сидя в одиночестве в этом доме, ожидая то, что неминуемо должно было произойти, он разминал свои искалеченные пальцы и вспоминал тот день, когда пришел в деревенскую церковь. Он, беглец из лагеря смерти, был страшно голоден; он искал хоть какую-нибудь еду. Увидев этот храм, он заглянул туда и обнаружил, что церковь совершенно пуста. Всех служителей арестовали и увезли. В домике приходского священника, стоявшем рядом с храмом, он нашел церковное облачение, еще хранившее человеческое тепло, и, побуждаемый скорее крайней нуждой, чем каким-нибудь обдуманным планом, быстро переоделся: его собственная одежда истрепалась так, что ни о какой починке не могло быть речи, к тому же она за версту выдавала в нем беженца, притом очень подозрительного толка, да и ночи были крайне холодные. Здесь же, в храме, Авраам придумал уловку в виде повязки на горле, — в военное время она не должна была вызывать много вопросов. Даже при том, что он не произносил ни слова, прихожане восприняли его как нового священника, присланного свыше, — возможно, потому, что жажда веры и покаяния особенно сильна в самые темные времена, — и потянулись к нему на исповедь. Они истово оглашали свои грехи перед этим молодым человеком в пасторском одеянии, хотя все, что он мог предложить взамен, — это жест отпущения, сотворенный искалеченной рукой.
Сетракян не стал раввином, как того хотела его семья. И вот теперь он оказался в роли священника — это была совсем другая роль, но все же какую-то странную схожесть можно было усмотреть.