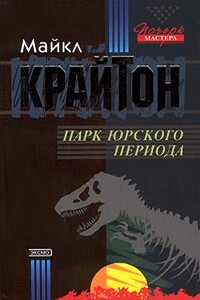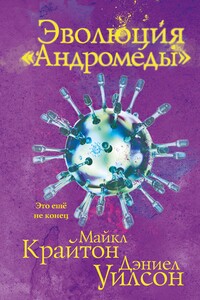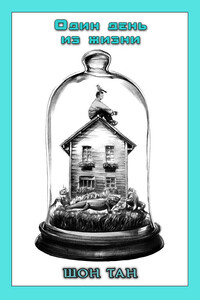Конго | страница 114
Обычно такие пометки наносили цветной глиной или особым образом связанными пучками трав. Поразительный стоицизм пленников, которые были свидетелями торга за ту или иную часть их тела, можно сравнить разве только с той бесчувственностью, с какой они были готовы встретить свой конец».
Подобные сообщения нельзя считать преувеличениями, свойственными поздневикторианской эпохе, хотя бы потому, что, по мнению всех очевидцев, каннибалы были очень милыми, дружелюбно настроенными людьми. Уорд писал, что «…каннибалы лишены коварства и злобы. Вопреки всем вполне понятным предрассудкам, трудно найти племена дружелюбней каннибалов». Бентли говорил, что людоеды – это «…веселые, отважные люди, склонные к дружеским беседам и открытому проявлению своих симпатий».
В период правления бельгийской колониальной администрации случаи каннибализма стали более редкими – к началу шестидесятых годов нашего столетия здесь появилось даже несколько кладбищ, – но никто всерьез не думал, что с людоедством покончено раз и навсегда. В 1956 году Энгерт писал: «Африканский каннибализм еще далеко не изжит… Однажды я сам какое-то время жил в деревне каннибалов и иногда находил человеческие кости. Туземцы… были вполне мирными людьми. Просто это один из тех старых обычаев, которые умирают особенно долго».
По мнению Мунро, восстание племен кигани в 1979 году носило политический характер. Кигани, испокон веков занимавшиеся только охотой, подняли мятеж в ответ на требование заирского правительства переключиться на земледелие, как будто эта перемена была очень простым делом. Кигани были одними из самых бедных и отсталых племен: они имели самые примитивные представления о гигиене; катастрофическая нехватка в их рационе белков и витаминов приводила к заболеваниям малярией, сонной болезнью, некаторозом и шистосоматозом. Один ребенок из четырех умирал при рождении, а из взрослых кигани редко кому удавалось перешагнуть рубеж двадцати пяти лет.
Невероятно трудная жизнь требовала какого-то объяснения; такое объяснение давал колдун-ангава. Кигани верили, что в большинстве случаев смерть человека вызывают сверхъестественные причины: умерший либо нарушил какое-то табу и потому был проклят колдуном, либо его убили мстительные духи царства мертвых. Охота тоже имела сверхъестественный аспект, потому что на дичь большое влияние оказывал мир духов. Больше того, мир сверхъестественных явлений кигани считали более реальным, чем мир повседневной действительности, который они называли «сном наяву». Поэтому они пытались навести хоть какой-то порядок в этом «сверхъестественном» мире с помощью магических заклинаний и волшебных трав, которыми распоряжался ангава. Обычаи предписывали им также ритуальное раскрашивание собственного тела; они верили, что если воин намажет лицо и руки белой краской, то в сражении будет непобедим. Таинственная сила, по убеждению кигани, заключается и в телах противников, поэтому поверженных врагов следует поедать: во-первых, для того, чтобы заклинания другого ангавы не причинили вреда, во-вторых, чтобы магическая сила, заключавшаяся в противнике, перешла к ним и, наконец, чтобы были заранее пресечены все злые козни вражеских колдунов.