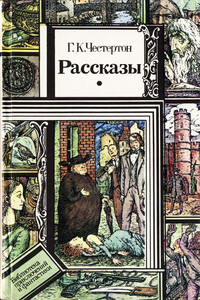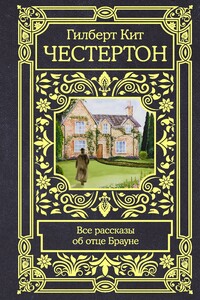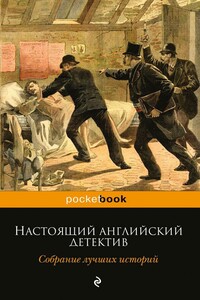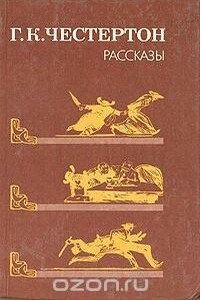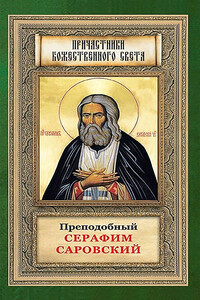Сочинения | страница 49
Еще одна черта кроме поэтического дара показывает, что этот грузный, робкий человек был наделен любовью и состраданием не меньше, чем святой Франциск, и уж никак не меньше, чем францисканские богословы. Святой Бонавентура никогда не отказывал ему в любви к Богу, а самого Бонавентуру Фома очень любил. Мало того, он любил свою семью с упорной, я бы даже сказал, настойчивой нежностью. И если мы вспомним, что семья ему сделала, мы увидим тут не только нежность сердца, но и редкое терпение. К концу жизни он особенно сильно любил одного монаха, Регинальда, и тот удостоился редкой для святого Фомы откровенности. Именно Регинальду он сказал невероятные слова, которыми закончилась и его ученая деятельность, и его земная жизнь; слова, непонятные для историков.
Он вернулся победителем после спора с Сигером Брабантским, хотя удар, нанесенный ему, был очень силен. Он победил, потому что был самым умным в своем веке; но он не смог забыть, как извратили его мысль и цель его жизни. Он был из тех, кто ненавидит ненависть, но в бездне беззакония, к которой вел Сигер, он увидел гибель религии и гибель истины. Как ни отрывочны сведения, можно установить, что он боялся тогда внешнего мира, где родятся такие дикие мысли, и тянулся к миру внутреннему, который доступен и святому, и самому обычному человеку. Он принял строгий распорядок ордена и какое–то время ничего никому не говорил, а потом (по преданию, когда он служил мессу) случилось то, чего никогда толком не узнают смертные.
Его друг Регинальд просил его вернуться к книгам и включиться в споры. Тогда святой Фома сказал с удивительным волнением: «Я больше не могу писать». Регинальд не отставал, и святой Фома ответил с еще большим пылом: «Я не могу писать. Я видел то, перед чем все мои писания — как солома».
В 1274 году, когда святому Фоме было около пятидесяти, папа призвал его на собор в Лион. Он подчинился внешне, как солдат, но что–то было в его глазах, и монахи поняли, что еще послушней он какому–то неведомому велению. Фома отправился в путь вместе с другом, думая заночевать у сестры, которую очень любил; но когда пришел к ней, внезапно слег. Мы не знаем, чем он заболел, не будем вдаваться в медицину; во всяком случае, он был из тех сильных людей, которых сваливают малые болезни. Его перевезли в ближайший монастырь. Тем, кто считает, что романтическая и эмоциональная сторона религии была чужда Фоме, стоит узнать, что он попросил читать ему «Песнь песней», с начала и до конца. Он исповедался и причастился, и можно не сомневаться в том, что великий философ совсем забыл философию, но не совсем забыли ее те, кто его любил, и даже те, кто просто жил в его время. Сведений очень мало — и все они столь весомы, что так и кажется, будто читаешь две истории, о двух сторонах событий. Люди знали, что могучий разум еще работает, словно большая фабрика. Они ощущали, что обитель стала изнутри больше, чем снаружи, словно мощная нынешняя машина сотрясала ветхое здание. В машине этой трудились разные миры, вращались концентрические сферы, которые при всех изменениях науки олицетворяют философию. То был огромный кристалл, и многослойная его прозрачность устрашала больше, чем тьма. Сфера ангелов была тут, и сфера звезд, и сфера животных или растений, все в справедливейшем порядке, здравая власть сочеталась с достойной свободой, и сотня ответов разрешала сотню вопросов экономики или этики. Но в какой–то миг все поняли, что машина остановилась, наступила тишина, в пустом доме остались лишь груды праха. А священник, который был с Фомой, выбежал из кельи и, словно в испуге, тихо сказал, что исповедался он, как пятилетний ребенок.