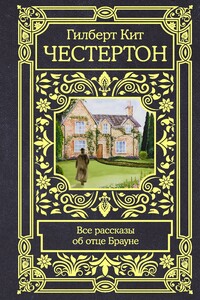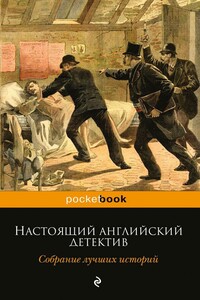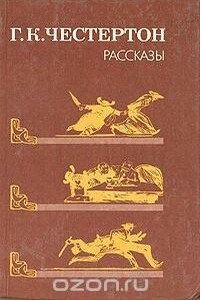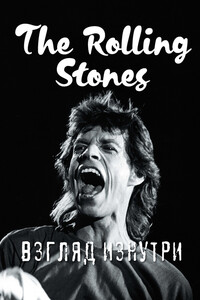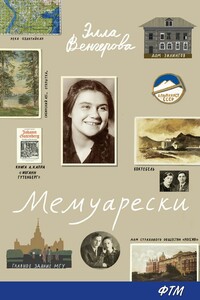Чарльз Диккенс | страница 53
Диккенс разочаровался в Америке и вознегодовал против тирании общественного мнения не только потому, что был типичным англичанином, то есть ярым приверженцем личной свободы. Разочарование его можно объяснить и тем менее личным и ясным недовольством, о котором я говорил: ему было противно, что американцы вечно красуются перед зеркалом; он не вытерпел тирании большинства не столько потому, что от нее страдало меньшинство, сколько потому, что большинство проявляло такое тупое и повальное самодовольство. Его мучило, что эта самодовольная страна так огромна, так едина, так благополучна. Ее самоудовлетворенность раздражала его больше, чем ее гнев. Одна мысль о неисчислимых миллионах, твердящих в один голос, что Вашингтон — величайший человек на свете, а королева живет в Тауэре, терзала его мятежный ум, словно кошмар. Но он остался верен республиканскому идеалу и страдал не о том, что Америка слишком либеральна, а о том, что в ней мало свободы. Среди прочего он сказал такие примечательные слова: «Я очень боюсь за радикала, который приедет сюда, если убеждения его не подкреплены принципами, разумом, размышлениями и чувством правды. Я боюсь, что в любом другом случае он вернется домой истинным тори…» [66]; «…ничего больше не стану говорить об этом, начиная с сегодняшнего дня, но я очень боюсь, что самый тяжкий удар, какой когда–либо наносили свободе, нанесет эта страна, ибо она не стала примером для всего мира» [67].
Предсказание это еще не сбылось, но никто не вправе утверждать, что оно неверно.
Диккенс побывал на Западе, у великих рек, побывал и на юге, даже в рабовладельческих штатах. Конечно, он видел Америку вскользь, но воспринимал ее как целое, и многое нравилось ему. Его заранее трясло от одной мысли о рабстве, и он клялся, что не примет почестей от рабовладельцев (решение это не устояло под натиском южной вежливости), но стычек с защитниками рабства было мало. Спорил он, как всегда, живо и пылко, но неверно думать, что его неприязнь к Америке связана только с ужасом перед страданиями негров. Кроме ханжества, о котором мы уже говорили, кроме утомительных и пустых словоизлияний, он жаловался на невоспитанность, и неприязнь его больше связана с американской привычкой плевать на пол, чем с рабовладением. Правда, когда прямо встал вопрос о том, нравственно ли владеть человеком, Диккенс говорил со всей благородной горячностью. Один ярый противник аболиционистов привел старые доводы: какая выгода рабовладельцу бить или морить голодом рабов? Рассказывая об этой беседе, Диккенс пишет: «Я спокойно сказал ему, что никому не выгодно пить, красть, играть в карты, предаваться дурным страстям, но люди все же это делают. Я сказал, что жестокость и злоупотребление властью — две пагубные страсти человечества — сильнее, чем соображения о выгоде или убытке». Трудно усомниться, что Диккенс говорил здраво, умно и более чем верно. Легче усомниться в том, что он говорил спокойно.