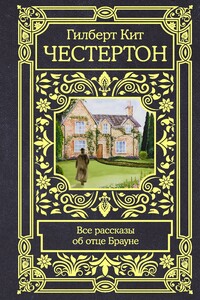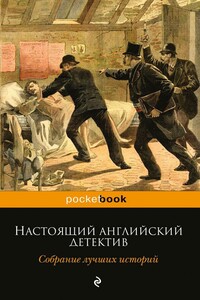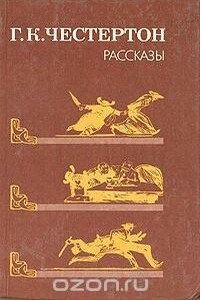Чарльз Диккенс | страница 48
Как я уже говорил, здравый смысл сочетался у Диккенса с необычайной чувствительностью. Другими словами, он интересовался примерно тем же, что самые обычные люди, но воспринимал все во много раз острее. Нам нелегко это понять, потому что в наше время мы слышим лишь о двух человеческих типах: о скучном человеке, умеренно привязанном к обыденному, и о человеке выдающемся, страстно любящем необычное. Диккенс любил обычное, только очень, очень сильно. В своих восторгах он доходил до болезненного экстаза, но не следует принимать его за маньяка. У него были все свойства эксцентрика, кроме одного, самого худшего, — узости. Даже когда он неистовствовал, как безумец, он не был мономаном. Мы не можем найти у него ни больного места, ни слепого пятна. Он был нормальным человеком, не умеющим владеть собой. Он не страдал идиосинкразией Рескина, пугавшегося железа и пара, или Бернарда Шоу, не выносившего возвышенной любви. Его раздражало то, что раздражает всех, только гораздо сильнее. Он не хотел изысканных услад; не в пример Бодлеру, он не жаждал небывалого вина и невиданных женщин; не в пример Киплингу, не грезил жестокостями Востока. Он хотел того, чего хочет здоровый человек, — только до боли сильно. Чтобы его понять, мы должны помнить о различии между тонкостью и болезненностью. Наверное, будет легче, если мы представим себе душевный строй женщины. В Диккенсе было много женского, и самым женским была эта ненормальная нормальность. В женщине больше чувствительности и больше здравомыслия, чем в мужчине.
Эти свойства Диккенса необычайно важны, когда речь идет о его ссорах, прежде всего о той великой ссоре с Америкой, к которой мы подошли. Вся история столь характерна для Диккенса, в ней так ярко проявилось его отношение к жизни, особенно к политике, что я, с вашего разрешения, подойду к ней с другого конца по длинной, извилистой дороге.
Здравый смысл — волшебная нить, тоненькая и непрочная, и потерять его так же легко, как порвать паутину. В серьезных делах Диккенс его не терял. Вспомним, к примеру, его отношение к политике или житейское упорство. Конечно, взгляды его могли быть и верными, и ложными; реформы, за которые он ратовал, могли стоить борьбы или не стоить, — не это предмет моей книги. Но если мы сравним Диккенса с теми, кто хотел того же, что и он (или другого), нас поразит его удивительная честность и редкое понимание человеческих слабостей. Он был ярым демократом, но это не мешало ему высмеивать заядлых, узколобых радикалов — краснолицых парней, на каждое слово кричащих «Докажите!». Он боролся за избирательное право, но не идеализировал выборов. Он верил в парламент, но, не в пример нашим газетам, не считал его лучше и достойней, чем он есть. Он сражался за грубо попранные права нонконформистов, но терпеть не мог их пустого, елейного многословия и показал им, как в страшном зеркале, жирную физиономию Чедбенда. Он понимал, что мистер Подснеп слишком мало думает о чужих странах, понимал и то, что миссис Джеллиби думает о них слишком много. В последней книге, изобразив Сластигроха, он дал нам услышать, как отвратительны либеральные речи в устах человека, не любящего свободы. А лучшее доказательство его прямоты и непредвзятости — в том, что он, хотя и верил в догмы, ни разу не связал себя с какой–либо догмой. Он не забрел в тупик социального или экономического фанатизма и всегда шел по широкой дороге Революции. Диккенс не признавал, что ради экономической пользы мы должны превращать в ад работные дома, как не признал бы этого Руссо. Диккенс не говорил, что государству незачем учить или лечить детей, как не сказал бы этого Дантон. Он был рьяным радикалом — но не фанатиком радикализма; он высоко ставил пользу — но не был утилитаристом. Пока экономисты разливались сладкими речами, он писал «Тяжелые времена», которые Маколей назвал «мрачным социализмом»