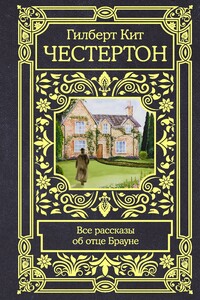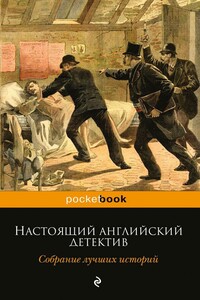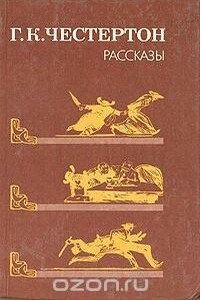Чарльз Диккенс | страница 46
Повесть мало связана с названием, но лучшие ее страницы, как всегда, еще меньше связаны с повестью. Дик Свивеллер, наверное, самый прекрасный из героев Диккенса. Беспредельная нелепость Манталини сочетается в нем с добротой и простодушием — он знает, что нелеп. Он разглагольствует не потому, что считает свои речи уместными, как Снодграсс, или выгодными, как Пексниф, — ведь то и другое заведомо неверно. Он просто любит поговорить, наслаждается, как писатель, красноречивыми фразами. Он упивается словами, как вином, они утоляют его жажду, бодрят, веселят, но не отупляют. Никто из великанов, созданных Диккенсом, не сравнится с ним в умении составить совершенную в своей нелепости фразу. «Мне, право, жаль, — говорит мисс Уэклз, доведя его до байроновского отчаяния «флиртом с огородником Чеггсом, — мне так жаль, если я…» — «Жаль? — подхватывает Дик. — Жаль, когда у вас есть целый Чеггс!» Горечь этой фразы поистине беспредельна. Не хуже он и в сцене, когда изображает оперного злодея. «Эй, там, вина!» — кричит он, раболепно подает себе кубок и гордо его принимает. А лучшее место в книге — беседа Свивеллера с единственным человеком, которому он сделал замечание, потому что тот спал весь день. «Мы не можем, чтоб один джентльмен спал у нас как двойной, без всякой приплаты… Никто не вытянул столько сна из одной кровати, так что хотите этак спать — платите за две». Дружба его с Маркизой исполнена поэзии и правды; в ней нет и следа обычных для Диккенса преувеличений. Бедный, веселый, добродушный клерк действительно общался бы часами со скромной служанкой, если бы нашел ее в доме — и по мягкости чувств, и по тому странному инстинкту, который так неверно зовут тягой к дурному обществу. Именно этот инстинкт влечет любителя удовольствий к неученым людям, чаще всего женщинам. Именно он объясняет необъяснимый на первый взгляд успех буфетчиц.