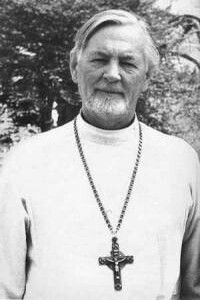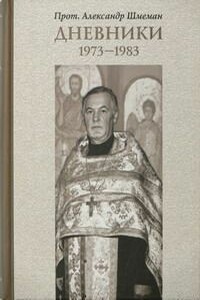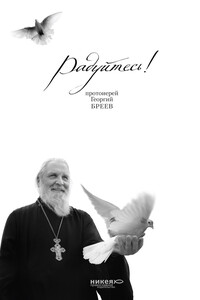Евхаристия. Таинство царства | страница 20
Но вот теперь мы можем и должны спросить: соответствует ли это понимание символа и символизма, это противопоставление их реальности, соответствует ли оно изначальному смыслу самого понятия «символ» и применимо ли оно к христианскому «закону молитвы», к литургическому преданию Церкви?
На этот — основной — вопрос я отвечаю отрицательно. Ибо в том то и все дело, что первичный смысл слова «символ» совсем не равнозначен с «изображением». Символ может и не «изображать», т. е. может быть лишен внешнего «сходства» с тем, что он символизирует. История религии показывает, что чем древнее, глубже, «органичнее» символ, тем меньше в нем такой только внешней «изобразительности». И это так потому, что исконная «функция» символа не в том, чтобы изображать (что предполагает отсутствие «изображаемого»), а в том, чтобы являть и приобщать явленному. Про символ можно сказать, что он не столько «похож» на символизируемую реальность, сколько причастен ей и потому может ей реально приобщать. Таким образом, разница — радикальная — между теперешним и первичным пониманиями символа состоит в том, что теперь символ есть изображение или знак чего то другого, чего при этом в самом знаке реально нет (как нет реального, настоящего индейца в актере, изображающем его, или реальной воды в химическом ее символе), тогда как в первичном понимании символа он сам есть явление и присутствие другого, но именно как другого, т. е. как реальности, которая в данных условиях и не может быть явленной, иначе как в символе.
Но это означает, в конце концов, что подлинный и первичный символ не отрываем от веры. Ибо вера и есть, «обличение вещей невидимых», т. е. знание, что эта другая реальность есть, отличная от реальности эмпирической, но в которую можно войти, которой можно приобщиться которая может стать «реальнейшей реальностью». Поэтому если символ предполагает веру, то и вера необходимо требует символа. Ибо, в отличие от просто «убеждений» или «философских взглядов», вера есть непременно общение и жажда общения, воплощение и жажда воплощения, явления, присутствия и действия одной реальности в другой. А все это и есть символ — от греческого συμβάλλω: «соединяю», «держу вместе». В нем, в отличие от простого изображения, простого знака и даже таинства в его схоластической редукции, две реальности — эмпирическая, или «видимая», и духовная, или «невидимая», соединены не логически («это» означает «это»), не аналогически («это» изображает «это») и не причинно следственно («это» есть причина «этого»), а эпифанически (от греческого επιφανεια — являю). Одна реальность являет другую, но — и это очень важно — только в ту меру, в которой сам символ причастен духовной реальности и способен воплотить ее. Иными словами, в символе все являет духовную реальность и в нем все необходимо для ее явления, но не вся духовная реальность является и воплощается в символе. Символ всегда отчасти, «ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем» (1 Кор. 13:9), — ибо символ, по самой сущности своей, соединяет реальности несоизмеримые, из которых одна остается по отношению к другой — «абсолютно другой». Сколько бы ни был реален символ, сколь ни приобщал бы нас духовной реальности, функция его не в том, чтобы «утолить» нашу жажду, а в том, чтобы усилить ее: «подавай нам истине приобщаться Тебе в невечернем дне Царствия Твоего…». Не в том, чтобы соделать ту или иную часть «мира сего» — его пространства, времени или материи — священной, а в том, чтобы в нем увидеть и опознать, как чаяние и жажду совершенного одухотворения, — «да будет Бог вся во всем» (1 Кор. 15:28).