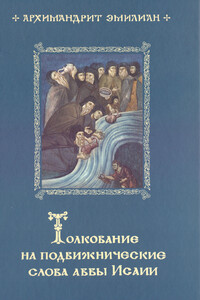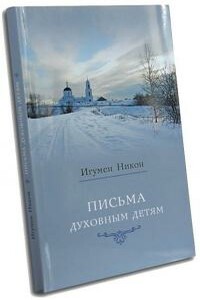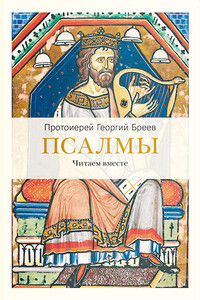Слова и наставления. Т. 1-2 | страница 48
Разумеется, что верующий и ежедневно читающий в святой Псалтири о горах и пустынях, которые ликуют перед лицом Божиим и откуда придет помощь Господа, или узнающий из Откровения о жене — образе Церкви и всякой души, которая родила младенца мужеского пола (Откр. 12, 13), и ей даны были… два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню (Откр. 12, 14), которая названа «ее местом», свяжет искание Бога и посвящение себя Ему с горами и пустынями, с подвигами и борьбой отшельнической жизни, будет смотреть на пустыню как на место и средство своего мученичества.
Итак, уже в первые времена установления Церкви христиане, жаждавшие познания Писания и достижения абсолютного евангельского совершенства, принятия креста Христова и наследования Царствия Небесного, хотели быть причисленными к отшельникам в пустыне, стать девственниками, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел (Откр. 14, 4). Поначалу они удалялись от мира в отношении места и образа жизни, а затем, увлекаемые все большей любовью, стали удаляться от него всецело. По слову апостола Павла, для меня мир распят, и я для мира (Гал. 6, 14).
Призвание к монашеству, расположение к отшельничеству и сознание мученика зарождаются и возрастают вместе. Они формируются, словно побеги, а затем плоды евангельской проповеди, обращенной к людям, имеющим свободу выбрать наилучший способ христианской жизни и посвятить себя боголюбивым аскетическим подвигам за Христа.
Поэтому естественно, что Церковь искони считала монахов своими избранными чадами и проявляла к ним повышенный интерес, особенно же после официального признания в IV веке за ней права на жизнь и свободу. Она проявляла заботу о тысячах этих боголюбивых мужественных борцов за Христа и их небесноподражающем монашеском жительстве.
По существу своему, монашество — установление весьма древнее, существует оно с тех пор, как засвидетельствовал Сын Отца Своего и Отец Своего Сына; или, по крайней мере, с тех пор, как была установлена на земле Церковь Христова на крестном и мученическом подвиге христиан. Монахи чувствовали, что их духовные корни, истоки и традиции уходят в мученичество, которое вершится на горах, в пещерах, в монастырях. Мученичеством благоугождается Бог.
3. Много способствовали развитию мученического элемента в монашестве гонения на христиан. Так, за отсутствием возможности наметить другие цели на своем горизонте (особенно на Востоке), кроме стремления к Богу, искания и познания Его, любви к Нему и общения с Ним, человек усматривал свою связь с Господом в стремлении к героизму и подвигам. Мы знаем, как может Бог разговаривать со Своим созданием, помним, как Он потребовал от мученика Ветхого Завета Иова: Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне (Иов. 38, 3). Трусливый, живущий в удобствах человек не может говорить с Богом. Святой Афанасий настоятельно советует девственникам: «Отвращайся женского мышления», и поэтому Церковь доверяет монахиням те же подвиги и скорби, что и мужчинам.