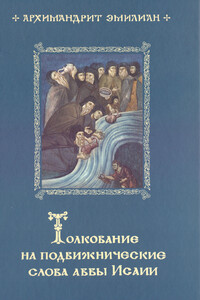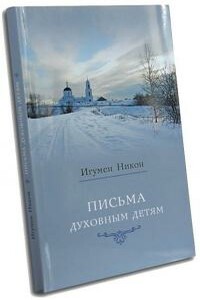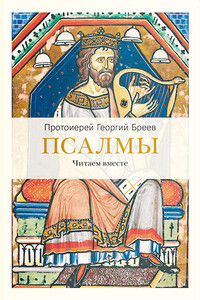Слова и наставления. Т. 1-2 | страница 45
О, отец Димитрий, тогда ты смотрел в «туда»! Сейчас оттуда посмотри на нас. Послушай, что говорится в Священном Писании: «Мой есть Галаад и мой есть Манассий». Его есть и ты. Так поспешим и мы сделаться Его. Ты помнишь, как–то ночью, на «Славе» хвалитных стихир на утрене ты схватил за руку сослужащего священника и вы дали распоряжение певчим вместо положенного по уставу богородична петь тропарь святого, который вас посетил.
Так посети теперь нас ты сам, отец Димитрий. Славословие тебе воссылают ангелы. Вместе с ними поют и наши сердца.
Перевод А.Ю.Никифоровой
Мученичество как отправной момент монашеского призвания
Что формирует и образует душу, посвятившую себя безмолвию? Покаяние как насущная потребность души, ее горячее желание. Ощущение временности и мнимости вещей, явлений, устремлений, всего мира, который есть не что иное, как воспоминание о другом, реально существующем мире, его образ. Любовь Божия и предпочтение Его Царствия, по сравнению с которым все остальное человеку, стремящемуся приобрести Бога, кажется блеклым и никчемным.
Под блеклым и никчемным для выбравшего монашеский путь мы подразумеваем и то, что освящено и благословлено самой Церковью, — жену, мужа, брак, детей, участие в мирской и церковной жизни или общественной деятельности, проповедь, дела милосердия, священство, разного рода общественные обязанности.
Поэтому Василий Великий запрещает монаху стремиться к священству. Дела милосердия считаются для монаха большим грехом, когда он творит их по собственному почину. Проповедь рассматривается как самолюбование. То есть расстановка акцентов абсолютно отлична от той, что существует во всем церковном сообществе, для того, чтобы показать, что монашество является перемещением в некий другой мир и отлично от обычного общества. Монашество есть переселение в иной мир. Напротив, наклонность к уединению, безмолвию, странничеству и желание совершенства и обожения соприсущны каждой душе, которая монашествует или стремится к монашеству. К этим, многим и разнообразным чертам, присущим монашеству, мы еще могли бы добавить и различные другие, которые подходят к монашествующим и сформировались в зависимости от знаний, образования, воспитания, характера, жизни каждого из монахов и его личной истории.
Но об одном неизменном свойстве монашества мне бы хотелось сказать сразу, свойстве, которое пробуждает все существо человека, посвятившего себя монашеству. Я имею в виду сознание мученика, желание пострадать, претерпеть, принести себя в жертву, даже умереть из любви к Богу и тем самым проявить сокровенные устремления своей души к Богу. Поэтому можно сказать, что человек прибегает к монашеству для того, чтобы стать мучеником через многие труды, болезни, слезы, терпение (или многие терпения, как бы сказал святогорец), испытание скорбями, трудами, темницами, обрушивающимися на него ударами со стороны бесов и людей, и многократно при смерти (2 Кор. 11, 23).