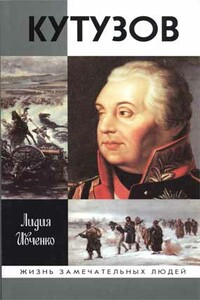Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года | страница 52
Было бы ошибкой думать, что, полагаясь во всем на волю Божью, русские офицеры становились пассивными и беспомощными перед опасностью, в том числе перед Великой армией Наполеона. Напротив, вера делала их всесильными. «Не руки, не ноги, не бренное человеческое тело одерживает победу, — говорил А. В. Суворов, — а бессмертная душа, которая правит и руками, и ногами, и оружием, — и если душа воина велика и могуча, не предается страху и не падает на войне, то и победа несомненна, а потому и нужно воспитывать и закаливать сердце воина так, чтобы оно не боялось никакой опасности, — и всегда было неустрашимо и бестрепетно»>{10}.
Одним из современников, волею судьбы оказавшихся в России на весь период Наполеоновских войн, был сардинский посланник граф Ж. де Местр. Он пристально и без предубеждения вглядывался в обычаи и нравы окружавших его людей и от души сопереживал неудачам и успехам русской армии, в рядах которой в 1812 году служил и доблестно сражался его сын — Р. де Местр. В бурном водовороте исторических событий религиозный философ де Местр усматривал столкновение двух сил. Одна из них была представлена Наполеоном, олицетворявшим «энергию разбойника», распоряжавшегося в Европе по праву сильного и до поры не встречавшего препятствий своей воле. Однако иностранный дипломат считал, что «фатализм мудрости» заключается совсем в другом: «Человек должен действовать так, как будто способен на все, и смиряться так, как будто не способен ни на что»>{11}. Следует отметить, что именно эта «схема» составляла основу исторического характера офицера эпохи 1812 года. Таким образом, Отечественная война 1812 года, кроме военного противостояния, в глазах современников знаменовала собой еще и противостояние двух мировоззрений.
Вероятно, к большинству наших героев можно отнести слова, высказанные в адрес графа А. А. Аракчеева: «…он стоял на позициях неподвижного православия». Действительно, мало кто из русских офицеров возносился до таких высот веры, чтобы вести богословские споры, но они верили сердцем, и это, безусловно, поддерживало их в самые трудные времена. H. А Дурова, выбравшись невредимой из очередного сражения, рассуждала так: «Ах, верно молитвы отца и благословение старой бабушки моей хранят жизнь мою среди сих страшных, кровавых сцен»>{12}. Впрочем, русские военные вспоминали о Боге не только на войне. «Бытовое православие» пронизывало все сферы их жизни, постоянно присутствуя в «рассуждениях о человеке». Так, Я. О. Отрощенко навсегда запомнил встреченное им однажды на природе утро как весьма важное событие в своей духовной жизни: «В одно светлое утро, в то время, когда выходящее солнце озарило первыми своими лучами весеннюю нежную зелень, я ходил, углубившись мыслями сам в себя, рассуждая о человеке, о жизни его и для чего предназначен он. Внезапно вырвался из груди моей тихий вздох. Я взглянул на лазурное небо и потом на окружающие меня предметы. В это время мне казалось, что меня окружает какой-то кроткий свет. Капли росы, висевшие на оконечностях трав, в листьях сияли разноцветными огнями, дрожа и изменяя беспрестанно свой блеск. Я остановился и видел жизнь, движущуюся по всей природе. Мне казалось, как наяву, что во всякой травке присутствует живой дух, производящий растительность. Я созерцал благоговейно таинства природы и во всем видел чудные непостижимые дела Божьи. Это было видение единственное в моей жизни и не долговременное. Я обратился в другую сторону в восхищении, чтобы насытить свой взор, но увы! Очарование исчезло; я видел те же деревья, те же капли росы, блестящие на них, но все это казалось уже в обыкновенном виде»