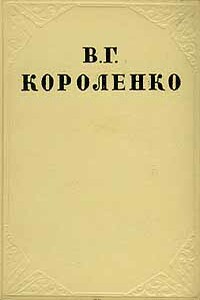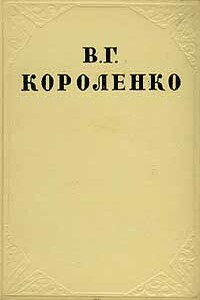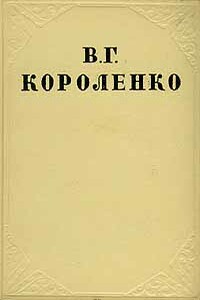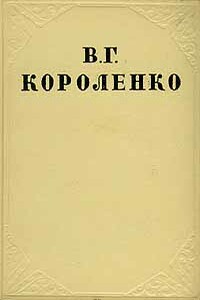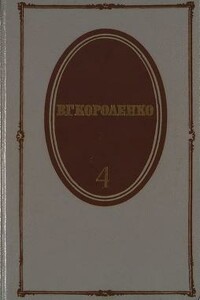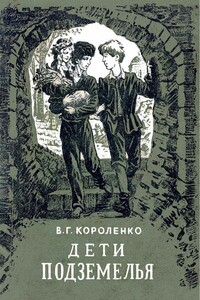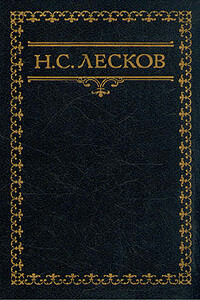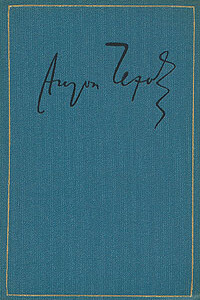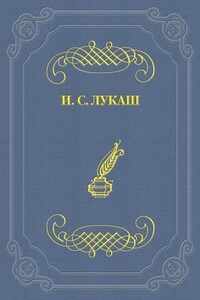Том 7. История моего современника. Книги 3 и 4 | страница 33
Все здесь, начиная с языка, указывало на обеднение культуры и регресс. Язык починовца отличался местными особенностями нашего северо-востока и Сибири. Здесь, например, говорили «с имя» вместо «с ними». Но некоторые выражения я встречал только в Починках и вообще в Бисеровской волости. Было тут слово «то-оно». Починовец прибегал к нему каждый раз, когда ему не хватало подходящего слова, а случалось это постоянно, точно в самом деле русский язык в этих дебрях оскудел. «Тбоно» означало что угодно, и слушатель должен был сам догадываться, о чем может идти речь. Это было нечто вроде существительного, общего и смутного, пригодного для любого понятия и точно не выражающее никакого. Починовцы сделали из него и глагол — «тбонать». «Мамка, скажи Ондрийку… Пошто он тбонает!» — жаловался один парень на другого, и мать понимала только, что между парнями возникло неудовольствие. Такое же неопределенное значение имело слово «декаться». Я истолковал его себе в смысле быть где-то, возиться с чем-то… «Долго декается парень», — это означало, что парень отсутствует неизвестно где и неизвестно что делает.
Вообще наш язык, богатый и красивый, в этих трущобах терял точность, определенность, обесцвечивался и тускнел. Отражалось, очевидно, обеднение сношений с внешним миром. Порой, однако, на бедном фоне вспыхивали искорки, и судьба дарила меня приятными неожиданностями. Правда, что по большей части это вспыхивало прошлое. Однажды в знакомой семье мне указали девушку, полуребенка. Она пришла нарочно, чтобы повидать меня, грамотея с дальной стороны, читавшего занятные книжки. Про нее мне сказали, что она умеет «сказывать» и без книжек. Некоторое время после моего прихода она сидела на лавке в дальнем углу, и оттуда на меня поблескивали ее большие черные глаза с наивным любопытством. Когда же ее вызвали ко мне, она держала себя очень застенчиво и робко, как будто раскаиваясь в своей смелости и стараясь стушеваться. Но когда я показал ей принесенную с собой книжку с картинками и обещал прочитать сказку, она оживилась, села на лавку на виду, её окружили любопытные слушатели, и она начала «сказывать». Я очень жалел, что не мог срисовать ее. Черты ее смуглого лица были необыкновенно тонки и красивы, а глаза сразу загорелись каким-то внутренним одушевлением. К сожалению, я теперь не помню «старинного сказа» или былины, которую она сказывала ровным певучим голосом, точно прислушиваясь к чему-то. Вполне ли она понимала все, что запало ей в душу из таких же рассказов какой-нибудь старой бабушки? Едва ли… На нее смотрели, ее слушали с удивлением, и, кажется, она сама так же удивлялась голосам старины, говорившей ее устами. Когда я, исполняя обещание, стал, в свою очередь, читать одну из народных сказок Пушкина и спросил ее, все ли ей понятно, она ответила скороговоркой: «Где, поди, понять-то», и тотчас же жадно подхватила: «Читай ино, читай дальше». Мое чтение было плоско и бледно сравнительно с ее сказом, но я видел, что она жадно ловит и каждое слово, и ритм пушкинского стиха, непроизвольно откладывая их в памяти. Потом, когда я уже говорил с другими, ее глаза смотрели мечтательно и губы шевелились: может быть, она затверживала пушкинские стихи..