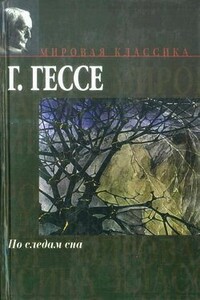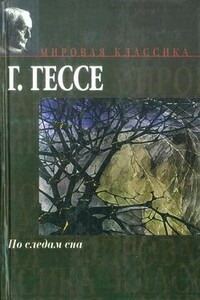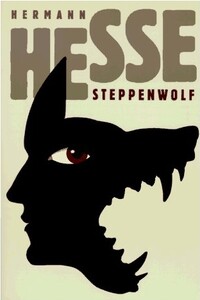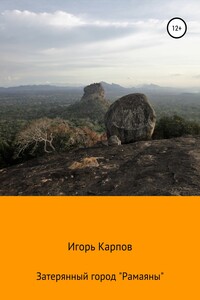Магия книги | страница 58
(1914)
БИБЛИОТЕКА ЗА ГОД
Говорят, что книголюбительство, как и скупость, относится к тем немногим страстям, которые с возрастом не только не проходят, но и растут, легко превращаясь в манию. Это мнение в моем случае, я вижу, пока не подтвердилось. Количество книг, с коими я никогда не хотел бы расстаться, становится с каждым годом все меньше, хотя библиотека моя постепенно растет. Книжные утраты, которые раньше выводили меня из себя, ныне переношу я пожимая плечами, и даже соблюдавшийся мною годами хороший обычай не одалживать книг я давно упразднил.
Но это не значит, что книги свои я люблю уже меньше, чем прежде. Страсть превратилась лишь в замечательную привычку, и относительность ценностей, уйма наложенных на нас ограничений начинают оседать во мне ржавчиной, которую в зависимости от точки зрения можно назвать и мудростью, и зрелостью, и первыми признаками склероза. Помещения, где обитает человек, как и книжные полки, вместе с ним не растут, не говоря уже о досуге и силе зрения. И вот, подытоживая минувший год, я безболезненно снимаю с полок и отдаю кое-какие совсем неплохие книги, хотя еще недавно был убежден, что со временем обязательно их прочитаю. Но нет, долой их, жизнь, становясь все короче и обозримей, вопиет о сосредоточении, а не о том, чтобы умножать мишуру.
Теперь, после летней чистки библиотеки, оценивая прирост ее за первый близящийся к концу год войны, случайных книг я вижу в ней меньше, чем прежде: война произвела отбор и сделала издателей осторожней. Очень мало новых романов, новых стихов, новых драм, почти ничего нет по философии, и очень мало книг по искусству. Даже литература о войне, несколько месяцев кряду заполонявшая мой письменный стол, исчезла большей частью нечитанная. Но стоит, пожалуй, упомянуть «Гений войны» Макса Шелера: я храню эту книгу как выразительное свидетельство немецкой восторженности и немецкого фантазерства, ухитряющихся потребности и необходимости текущего дня переносить в бесконечность и переменчивые нужды страны истолковывать мудростью тысячелетий. Книга неправильная и ужасно опрометчивая, но не плохая, не глупая, не вредная, не отвратительная; в ней говорится о том, как досадно, что Россия нас не приемлет, и о том, что неприятие это мы не простим, но забудем.
Самый ценный прирост моей библиотеки в истекшем году — это Гёте. Необычная с ним вышла история. Со времени четырехтомного покрытого пятнами плесени домашнего Гёте моих детских лет я держал, использовал, читал много изданий его произведений, прикупал их в рассрочку на сэкономленные карманные деньги, обменивал и в конечном итоге — всегда неудачно; я был владельцем пятнадцатитомного прекрасно оформленного издания, продолжение которого обещано было очень давно, но так и не состоялось, а сейчас уже кажется невозможным из-за войны. Что мне до кожаных его корешков и красивого шрифта, когда сколько раз я искал в нем и не находил стихотворений, статей или чего-нибудь из малых юношеских вещей; и слишком поздно сообразил, что этот мой Гёте хуже, чем первый, двадцатилетней давности. А у моих друзей был замечательный Гёте, так называемое «юбилейное издание» книготорговли Котты. Правда, его скучноватые матерчатые переплеты смотрелись похуже, чем темная кожа моего издания, да и печать, хотя и очень хорошая, чуть ли не изысканная, все же не столь особенная и утонченная, как в моем Гёте; но когда в том издании я что-то искал, то всегда находил — находил быстро и безошибочно с помощью очень хорошего тома-указателя, и постепенно это мне показалось столь удобным и ценным, что прелесть моего издания в коже стала меркнуть все больше и больше, пока, спустя двадцать лет всевозможных попыток и экспериментов, я не решил наконец обменять своего Гёте еще раз и приобрести юбилейное издание Котты. И чем чаще из-за войны я вновь и вновь обращался к чтению Гёте как к источнику утешения и покоя, чем больше казалось невероятным продолжение моего лишь наполовину полного издания, тем нетерпеливее ждал я уже заказанного штутгартского юбилейного Гёте в сорока одном томе. И вот теперь он стоит у меня, корешок к корешку, то тут то там со следами того, что пользовались им как следует, и, довольный, ни часу я не скорбел о кожаных корешках, несмотря на их красоту. Это штутгартское издание не только замечательно полное (но не для филологов, изучающих творчество Гёте — такое уже давно выходит в Веймаре, — а скорее для дома и кабинета читателя, которого не удовлетворяют десятки неполноценных изданий!), не только очень хорошо и понятно устроенное, текстуально надежное и удобное в использовании, но также и красивое, солидное и при этом странно дешевое. Правда, матерчатые переплеты мне все еще немного мешают; нет-нет, они отнюдь не уродливы, но есть в них какая-то робость и скованность в их положении между старомодным и современным, и живи мы в лучшие времена, то я бы, наверно, отдал переплести их иначе. И все же этот строй из сорока одного корешка я здорово полюбил, и если от одного из людей, которые взахлеб рассуждают о книгах, не покупая их никогда, опять я услышу избитые утверждения, что к немецким книгам, мол, не подступиться и красивые недорогие издания есть только лишь у французов, — я проведу этого человека вдоль своего Гёте, вручу ему какой-нибудь том и спрошу, знает ли он хотя бы одну французскую книгу, так дешево стоящую при таком объеме, такой бумаге, печати и таком переплете. Я не певец патриотизма, но перед подобными достижениями (книга в переплете объемом примерно в четыреста страниц и напечатанная на прочной, хорошей бумаге стоит две марки) я развожу руками с некоторым удивлением: нет, все-таки это очень неплохо, что Германия Гёте со временем стала Германией также финансов, машин и расчетов! Издатели научились считать, и такой Гёте не вышел бы в свет, не будь для него обеспечено несколько тысяч покупателей. И если четверть, треть или даже пусть половина всех покупателей только поставят Гёте на полки и будут владеть им лишь внешне, мы будем не переживать, а, сочтя сие за порядок вещей, радоваться, что библиофилы-попутчики нам помогают заполучить такие прекрасные книги.