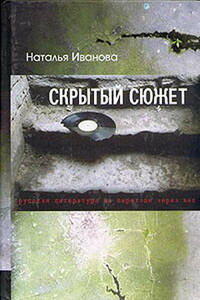Для читателя-современника | страница 21
И хотя в книге речь идет о старости на самом пороге угасания, но здесь никто не умирает. Победа, хотя бы моральная, достигнута здесь не ценою жизни.
В повести "Старик и море" намечается попытка обойти тупик послевоенных тягостных противоречий, обратившись к общечеловеческой теме, почти абстрагированной от текущей действительности. Это тема мужественного труда ради "большой", но узкой цели, которую Хемингуэй пока определяет только как "большую рыбу". Осязательное, реалистическое изображение маленького клочка, частицы жизни как точки, к которой приложены большие силы, заставляет прислушаться к этой вещи, но реализм ее в значительной мере ослаблен туманной многозначительностью, которая уже дала повод для диаметрально противоположных аллегорических толкований. Поэтому "Старик и море" можно рассматривать и как большую заявку писателя, который ищет для новой книги свою "большую рыбу" - большую и жизненную тему.
Пока что обе послевоенные повести - все же лишь разговор вполголоса, и, во всяком случае, едва ли это итог размышлений Хемингуэя над послевоенной действительностью.
"За рекой" - по сути своей фрагментарная книга. "Старик и море" - это тоже, как сообщает американская критика, фрагмент или набросок к большому, еще не напечатанному роману. Это более или менее ценные и отшлифованные этюды, вещи проходные, вне зависимости от их литературных качеств. И хотя качества эти неоднородны, в обоих чувствуется возврат к более напряженной ранней манере. В "За рекой" - это опять пространная невнятность диалогов, натянутый невеселый юмор. А в "Старике" опять стучит навязчивость техницизма, бесконечного внутреннего диалога и выделяются чужеродные импрессионистические вкрапления.
Мастерство Хемингуэя остается большим мастерством. Важнее то, что на большие вопросы, поставленные послевоенной жизнью, Хемингуэй пока не отзывается. Молчание это в условиях разнузданной милитаристской истерии хотелось бы считать формой протеста ветерана, уже сказавшего однажды "прощай" оружию и не торопящегося сказать новое, не менее веское слово. Пока он отделывается только беглой репликой. Так, когда в 1954 году Хемингуэй вернулся на родину из Африки после долгой отлучки и в бесчинствах сенатора Маккарти распознал все ту же тень фашизма, он резко высмеял Маккарти.
После двух авиационных катастроф в Африке и сотрясения мозга Хемингуэя будто бы тревожат всякие дурные сны. Причем этот вид сотрясения, добавляет Хемингуэй, вызывает у него сны о грубой силе. В этой связи приходит ему на ум и такая мысль: уцелел ли бы в Африке среди диких зверей сенатор Маккарти, лишенный здесь своей депутатской неприкосновенности? Тут сам он будто бы выходит на ночную охоту и вдруг видит сенатора Маккарти тоже с охотничьим копьем. "Вы на кого охотитесь?" - спрашивает сенатор. "На шакалов", - будто бы отвечает Хемингуэй. "А я на крамольников!.. Я ополчился на всех врагов истинно американского образа жизни!" - "А я на шакалов", - отвечает ему во сне Хемингуэй и довольно ядовито напоминает Маккарти о судьбе другого фашиствующего сенатора, Хью Лонга, который метил в диктаторы, а кончил плохо. "Да, плачевна его судьба, - соглашается республиканец Маккарти, хоть он и был демократ". "Тут я подумал, - пишет Хемингуэй, - что, может быть, я был невежлив, непатриотичен, негостеприимен, и сказал ему во сне: "Если вы отыщете здесь живых крамольников, которых еще не сожрали гиены, то я пришлю носильщиков, и вы доставите их в Найроби, конечно, если только мои носильщики смогут сработаться с вашими подручными". На этом кончается сон и вымышленный разговор охотника за шакалами с охотником за крамольниками.