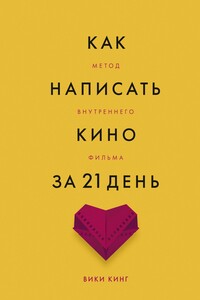Марсель Карне | страница 2
«Он был тем, кто сумел сломить преграды во имя своей свободы, пусть даже и неопределенной, - писал после войны Антониони. - И естественно, это нас воодушевляло. Правда, тогда мы очень нуждались в воодушевлении. Видя его работающим, я удивлялся, что в своих постоянных и почти невероятных технических поисках он всегда представлял школу, поколение, нацию, представлял новое содержание и, конечно, робкую попытку восстания, и пыл вполне определенной полемики»[4].
Фильмы Карне были вершиной «Поэтического реализма» (термин, которым принято обозначать течение, возникшее в киноискусстве Франции в тридцатые годы). Употребляя этот термин, необходимо сразу же оговорить его условность: «реализм» в данном случае не означал прямого, непосредственного отражения реальности; экранная поэзия имела романтический, иногда осложнённый символистскими влияниями, характер. Собственно, реализмом (а порою говорили даже о «натурализме» французской школы) в то время называли реставрацию литературности, «послеавангардистскую реакцию» в кино, вернувшемся от зрительных абстракций к традиционной «крепкой» фабуле и социально обозначенным героям.
Видимость социальности и современности ― кварталы бедноты, столь живописные у Рене Клера и сумрачные у Карне и Ренуара, кишащие бандитами трущобы Дювивье, простонародная среда и пролетарский облик персонажей: солдат, рабочих, машинистов, люмпенов и пр. ― тут не должны обманывать. Это лишь внешний слой, поверхностно-реалистическая оболочка ― дань зрительскому спросу, левым настроениям в стране, моде на «популизм».
Свои глубинные концепции, сюжеты, темы, психологические амплуа героев и героинь кино заимствует у старой романтической литературы[5]. Любовь и Смерть, Любовь и Преступление, невинная красавица и рыцарственный разбойник, таинственная атмосфера, демонический злодей, женщина-вамп с ее губительными чарами, соперничество, ревность, мистика многозначительных случайностей и, наконец, кровавый рок, подстерегающий героя на каком-нибудь туманном перекрёстке ― мотивы, издавна считавшиеся романтическими штампами, осмеянные, изгнанные из высоких сфер искусства, перестают быть принадлежностью одних лишь «низких жанров». Та самая «литературная тенденция», которая в период авангарда была задвинута на дальнюю периферию коммерческой кинопродукции, снова просачивается наверх.
Кинематограф поэтического реализма с самого начала претендует быть серьезным и проблемным. И тем не менее он даже не пытается скрывать свое родство с бульварными романами, театральной и киномелодрамой, мюзик-холлом. Авангардистской элитарности он противопоставляет свою кажущуюся народность, демонстративно возвращая на экран общедоступные каноны мелодрамы, романтику любви и приключений, надрывность чувств и павильонный реализм «простого быта».