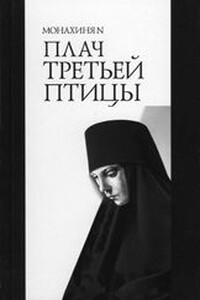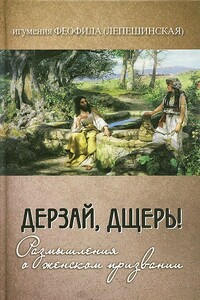Рифмуется с радостью | страница 95
Раньше принято было спрашивать: «из какой он семьи?». На характере человека происхождение сказывается сильно, но отнюдь не всегда так однозначно, как думал, например, Марк Твен (1835 – 1910): по слухам, он собирался написать о Томе Сойере и Геке Финне, достигших 60 лет; они встречаются, вспоминают прежние времена и, выросши, согласно генетическому предрасположению, заурядными обывателями, сетуют на пустую никчемную жизнь. Г. Уэллс (1860 – 1946) говорил: «если б не особая милость Божья, я был бы сейчас простым дворецким»; он, как и Чарли Чаплин, страдал от повышенной ранимости, присущей, говорят, людям «низкой породы».
А.В. Никитенко родился крепостным и в силу этого обстоятельства не имел права учиться в гимназии, тем более в университете. Но он от младых ногтей тянулся к людям высокого умственного уровня, получал от них книги «серьезного содержания», усердно занимался самообразованием, писал; старшие друзья оказали протекцию у влиятельного князя А.Н. Голицына, и одаренный юноша, отпущенный на свободу, стал студентом и сделал блестящую карьеру. «Ничто не возбуждает так деятельности, как нужда и горький опыт, – оценивал он впоследствии, – исключительность моего положения подстрекала к развитию способностей».
Ч. Диккенс (1812 – 1870) всегда помнил тяжелые годы детства и жестокость, с которой он столкнулся на фабрике ваксы, но именно тогда будущий писатель научился ценить сострадание, тема которого так сильно и ярко звучит в его книгах. Р. Киплинг (1865 – 1936) на весь мир объявил: «Верните мне первые шесть лет детства и можете взять все остальные»: первые годы прошли в Индии, с отцом и матерью, столь чуткой, что впоследствии она могла подсказать следующую строку сочиняемого им стихотворения. Но затем мальчика отправили в Англию, обучаться в маленькой школе-пансионе, где пришлось терпеть грубость, унижения и побои; однако в зрелом возрасте писатель признавал, что испытания в «доме отчаяния» оказались хорошей подготовкой к будущему, т.к. требовали наблюдательности, внимания и осторожности.
К.И. Чуковский с детства мучительно переживал свою «неприкаянность, безместность»: стыдясь незаконнорожденности и стараясь скрыть ее от людей, он, когда другие говорили об отцах, краснел, мялся, лгал и эту ложь и путаницу впоследствии считал «источником всех фальшей и лжей дальнейшего периода»; отсюда, признавался он в дневнике, «завелась привычка мешать боль и шутовство – никогда не показывать людям себя». Но именно юношеский стыд и стал, вероятно, мощным стимулом к преодолению жалкой судьбы: человек разносторонних дарований, поразительной воли и невероятной трудоспособности, он стал тем, кем стал, научился сохранять себя в сложнейших обстоятельствах, прославился тонким, безукоризненным вкусом и высокой порядочностью. В его долгой жизни светлым и радостным периодом предстает не молодость, а старость. И для Ч. Чаплина (1889 – 1977) старость была, по его признанию, самым увлекательным временем. Мальчиком он пережил бедность и унижения, воспитывался в работном доме и школе для сирот, выстоял и научился в любой беде противостоять отчаянию, а счастью радоваться, как приятной неожиданности.