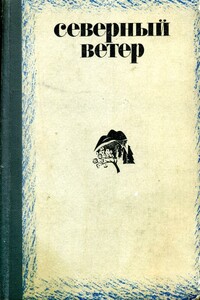Том 8. Преображение России | страница 35
Говорил он очень основательно, — ясноглазый бородач, — все на «о», и все знаки препинания соблюдал, а повар Иона, ровесник по годам барину, вид имел суровый и никогда не давал ему кончить: на полуслове возьмет и дернет солового так, что тот, хочешь — не хочешь, пойдет дальше, и, подчиняясь этому, как судьбе, Максим Михалыч уже издали допрашивал свое, прощался по-латыни и делал ручкой.
Или немец Петере спускался со своей дачи, похожей на часовню, и совершал вдоль берега прогулку; бритый, высокий, плотный, часто кивал на все кругом головою и говорил бурно:
— Дайте это все немцам!.. Что бы они тут сделали, — ффа-фа-фа!.. Дайте это немцам! Дайте это немцам!..
Очень усердно просил, как будто от Алексея Иваныча зависело отдать это все кому-нибудь, хотя бы и немцам.
И другие приходили, — и, по-видимому, льстило как-то всем, что их дорогу ведет не какой-нибудь михрютка-подрядчик, а приличный человек в непромокаемой крылатке и в фуражке казенного образца, внушающей полное доверие.
А так как Алексей Иваныч никогда не дичился людей и сам был разговорчив и ко всем внимателен, то скоро весь берег стал ему знаком и понятен.
И рабочие тоже… Сидор-каменщик, отбивая зубилом лицо у камня и поглядывая на море, говорил:
— Я думай так: сильней вода, а ничего нема…
Потом глядел на него, узкоглазо улыбаясь, и добавлял:
— И огонь.
Потом бросал косой взгляд на турок-землекопов и добавлял еще:
— И земля… Больше нет.
А Кирьян, его младший брат, когда хотел усовестить какого-нибудь «рабочика», взятого прямо с базара, полухмельного и полусонного, показывал еще и на небо, говоря:
— Смотри! Курица, когда вода-a пьет, и то она у небо смотрит: там бох есть!
Но упорные стены нужно было класть так, чтобы могли они выдержать любой прибой, и больше всего за ними, за Кирьяном, Сидором и другими разделителями стихий, в рыжих шляпах и со смуглыми сухими лицами, приходилось наблюдать Алексею Иванычу.
Берега тут были высокие, и ветер с гор перелетал через пляж: у него была своя работа, и в эту, людскую, он вмешивался редко; разве где шутя задерет красную рубаху дрогаля, обнажит белую поясницу и похлопает по ней слегка.
Пахло сырой землей, только что увидавшей свет, лошадьми и морем.
На море паслись черные бакланы и пестрые — голубые с белым — чайки на стадах покорной пищи — камсы, а иногда гагара подплывала близко, точно глаголик на зеленой бумаге: вся — осторожность и вся — недоверчивость, вся — слух и глаз и вся — любопытство, куда нос повернула, туда сразу и вся, — странная очень птица и одиночная, и глядеть на нее почему-то было тоскливо Алексею Иванычу.