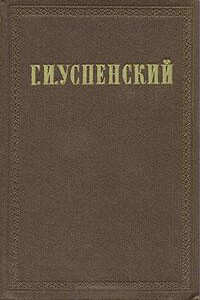Из деревенского дневника | страница 54
— А ежели она пятьдесят лет проживет?
— Да хоть двести живи. Раз он забрал ее в руки, ему-то что? Он и теперь вон преспокойно живет с поповской кухаркой и внимания не обращает — живи, сделай милость, хоть тыщу лет; он, брат, заручился; теперь его не сшибешь…
— А как узнает старуха-то да прогонит?
— Да гони, сделай милость! Это ему еще лучше: положил деньги в карман — и пошел… Она же останется без копейки… Нет, брат, его теперь не ссадишь с позиции — уж он, брат, запустил корни ловко…
— А плут!..
— Ну!.. Плут!.. Мало чего нет! Ты уж чорт знает чего хочешь… Так нельзя… А еще вот Михайло Петров? Это разве не умный человек? От отца отошел с пятиалтынным, а теперь вот через шесть лет дом двухэтажный, пять лошадей; поди, не одна сотня…
— Все через жену.
— Через кого бы ни было; а добился.
— Жену продал барину…
— Продал ли там, нет ли, а дом вот, и деньги, и скот… Да хоть и продал, что ж такое? Может, она ему не мила была? Отчего ж, ежели, например, на время, и через это можно на ноги стать? Ведь так нельзя судить: продал. Что у кого есть под руками. Уж лучше с выгодой, чем без выгоды; таким дурам вон, как Акулька, без всякого расчету… Ежели идет линия, так, напротив того, умная женщина должна способствовать, потому что вот, например, Михайло Петров этот. Ведь уж он непременно в купцы выйдет, уж это как бог свят. А вышел в купцы, никто там этого знать не будет; а будет эта тайна промежду мужем и женой… Ежели б она наживала таким манером деньги да в дом бы не несла, ну, тогда муж может претендовать… А уж ежели между ними согласие, тогда чего же? Только промежду них и будет…
— А грех-то?
— Ну, брат, все грешны. Я думаю, и у тебя не сочтешь грехов-то, а тебе вон и двадцати лет нету. Все грешны. Всякий даст ответ богу сам. Это не наше дело судить. Не осуждай! А про то я говорю, что умный человек сумеет извлечь, а дурак — нет.
— Подлостью.
— Чем пришлось. Чем господь привел, а уж достигнет, а дурак никогда, и даже, вот как Берт, потеряет состояние…
В это время почти неслышными шагами — чему способствовали резиновые калоши, выделилась из тьмы и вступила на крыльцо какая-то фигура.
— Кто это? — спросила она шопотом.
— Это мы, — громко отвечали писаря. — Это вы, Иван Иванович?
— Я, я! — точно задыхаясь, шептал учитель.
— Где вы до сих пор?..
— Тут… у батюшки… предписание… Который-то час?
— Не знаем. Ваши уж легли.
— Ну, и слава богу. Пусть… опоздал…
Манера говорить и интонации голоса учителя были кротки, монашески-умилительны.