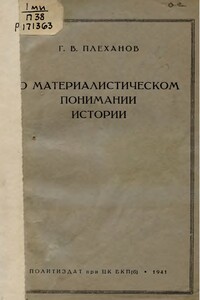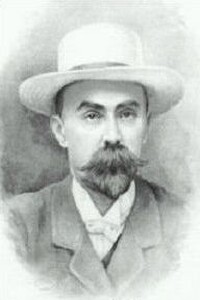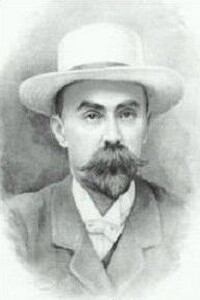Народники-беллетристы | страница 3
Если нашего разночинца мало привлекает внутренняя красота художественного произведений, то еще меньше можно соблазнить его внешней отделкой, например красивым слогом, которому французы до сих пор придают такое огромное значение. Он каждому писателю готов сказать: "Друг мой, пожалуйста, не говори красиво", как советовал Базаров молодому Кирсанову. Пренебрежение к внешности заметно на собственной речи разночинца. Его грубоватый и неуклюжий язык далеко уступает изящному, гладкому и блестящему языку "либерала-идеалиста" доброго старого времени. Иногда он чужд не только "красоты", но — увы — даже и грамматической правильности. В этом отношении дело зашло так далеко, что когда разночинец-революционер обращался к публике, стараясь воспламенить ее своей письменной или устной речью, то, не умея владеть словом, он, при всей своей искренности, оказывался не красноречивым, а только фразистым. Известно, что все органы слабеют от бездействия.
Так как, кроме всего того, наш разночинец всегда с большим презрением относился к философии, которую он называл метафизикой, то нельзя также сказать, чтобы он был "обаятельным диалектиком". Гегель, наверное, не признал бы за ним больших достоинств по этой части. Отсутствием философского развития объясняются многие тяжкие теоретические грехи разночинца.
Не забудьте, наконец, что иностранные языки он знает очень слабо: в детстве родители, по бедности, не обучали, в школе обучали очень плохо, а в зрелом возрасте было не до языков. Поэтому с иностранными литературами он знаком лишь кое-как, из вторых рук, но переводам. Здесь мы также видим прямую противоположность "либералу-идеалисту"; тот говорил чуть ли не на всех европейских языках и, как свои пять пальцев, знал главнейшие иностранные литературы.
Таков наш разночинец вообще, таков и разночинец-писатель. В нашем литературном народничестве и даже в народнической беллетристике легко заметить все свойственные разночинцу достоинства и недостатки. Чтобы убедиться в этом, возьмите, например, сочинения Гл. И. Успенского и сравните их с сочинениями Тургенева. Вы тотчас увидите, что эти два писателя принадлежат к двум различным общественным слоям, воспитывались при совершенно различных условиях, ставили себе в своей художественной деятельности совершенно различные задачи. Тургенев не менее Успенского был отзывчив ко всему тому, что составляло животрепещущий общественный интерес его времени. Но между тем как Тургенев был бытописателем "дворянских гнезд", Успенский является бытописателем народа. Тургенев подходит к явлениям как художник, и почти только как художник; даже там, где он пишет на самые животрепещущие темы, он интересуется больше