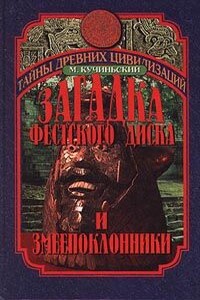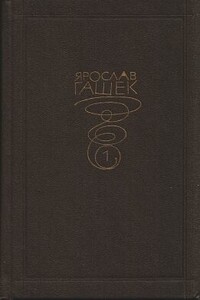Статьи | страница 39
Признаюсь, чем больше и внимательнее вдумывался я в значение того глубокого смысла, который придает госпожа Толычова слову "бельэтаж", тем неудержимее возгоралось во мне желание узнать и точно определить, действительно ли "ихний" бельэтаж имеет права на ту наглость, с которою он кричит о своем высоком положении в обществе? Имеет ли право этот "ихний бельэтаж" кричать на весь свет: "Мы — литература бельэтажа, мы — представители и выразители высшего общества, мы — большой свет, мы — соль земли, а все остальное — сор и грязь, которую надо вымести вон, выбросить в канаву с нечистотами". И едва я начинал думать об этом, как уж, сам не знаю почему, чувствовал себя весьма неловко. "Ох, — говорил я сам себе мысленно, — ведь, пожалуй, что в этом бельэтаже не совсем чисто!.. "Фатера", — думалось мне со свойственной мне безграмотностью, — у "их" точно что в бельэтаже, а народ там, как оказывается, не вполне… нет!.. как будто бы не вполне господского звания! Фраки на них надеты, это правда, но ведь вот и у "татар" вся прислуга во фраках? А разговор ихний? А уж что касается разговору, так и в харчевне так не разговаривают, как в ихнем бельэтаже. На нашего брата из низкого звания серчают и начальству жалуются, когда по безграмотности скажешь "руп на руп", или "васясо", или "Питенбурх", жалуются и на весь свет срамят, а сами? Двадцать пять лет, день в день, час в час, изо дня в день и из часу в час, во все свои парадные окна, подъезды и швейцарские не войдут, не выйдут и не выглянут без скверного слова: "Мошенники пера! мерзавцы либерализма! разбойники печати! идиоты самоуправления!" Двадцать пять лет, на всю Россию, в окна и в двери, только и слышишь — скрежещут и орут: подлецы, мошенники, разбойники, плуты, идиоты. Только развернешь лист ихней бельэтажной газеты, на первой же строке скрежет и крик! И это с девяти часов утра каждый божий день, двадцать пять лет! Никому нет покою!"