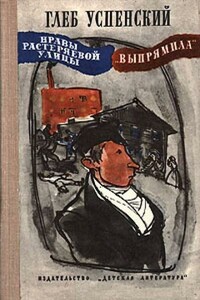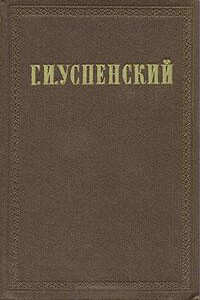(Рукоплескания.) Из храма, где поэт являлся жрецом, где еще горел священный огонь, но горел только на алтаре и сожигал только фимиам, люди пошли на шумное торжище. Поэт-эхо сменился поэтом-глашатаем; раздался голос "мести и печали", а за ним явились и пошли другие, пошли сами и повели за собою нарастающее поколение". Многие в этом изменении задачи поэта видели просто упадок, "но мы, — сказал оратор, — позволим себе заметить что падает, рушится только мертвое, неорганическое, живое изменяется органически ростом, а Россия — растет!" (Рукоплескание.) Точно так же и возрождение в обществе внимания к давно и не без основания забытому поэту И. С. Тургенев объяснял не тем, что поколение, отставшее от поэтов эха и последовавшее за поэтами-глашатаями,
раскаялось в своей опрометчивости или утомилось на неприветливом пути. Вовсе нет: "мы радуемся этому возвращению, — сказал И. С. Тургенев, — в особенности потому, что возвращающиеся к ней (поэзии Пушкина) возвращаются не как раскаявшиеся грешники, не как люди, разочарованные в своих надеждах, утомленные собственными ошибками, не как люди, которые ищут пристанища и успокоения в том, от чего они отвернулись, — нет, в этом явлении мы скорее видим симптом
хотя некоторого удовлетворения, видим доказательство, что хотя некоторые из тех целей, для которых считалось не только дозволительным, но и обязательным приносить в жертву все, не идущее к делу, что эти некоторые цели признаются уже достигнутыми и что будущее сулит достижение и других".
"Нарастающее поколение", принятое под защиту И. С. среди царившей против него вражды, была первая светлая минута пробуждения мысли "современников о современном".
III
Но никто не подозревал, чтобы эта же "современность" могла завладеть всем существом, всей огромной массой слушателей, наполнявшей огромный зал дворянского собрания, и что это совершит тот самый Ф. М. Достоевский, который все время "смирнехонько" сидел, притаившись около эстрады и кафедры, записывая что-то в тетрадке.
Когда пришла его очередь, он "смирнехонько" взошел на кафедру, и не прошло пяти минут, как у него во власти были все сердца, все мысли, вся душа всякого, без различия, присутствовавшего в собрании. Говорил он просто, совершенно так, как бы разговаривал с знакомыми людьми, не надседаясь в выкрикивании громких фраз, не закидывая головы. Просто и понятно, без малейших отступлений и ненужных украшений, он сказал публике, что думает о Пушкине, как выразителе стремлений, надежд и желаний той самой публики, которая слушает его сию минуту, в этом же зале. Он нашел возможным, так сказать, привести Пушкина в этот зал и устами его объяснить обществу, собравшемуся здесь, кое-что в теперешнем его положении, в теперешней заботе, в теперешней тоске. До Ф. М. Достоевского этого никто не делал, и вот главная причина необыкновенного успеха его речи.