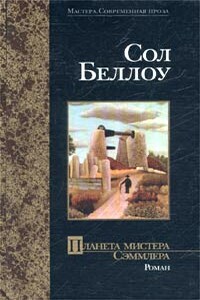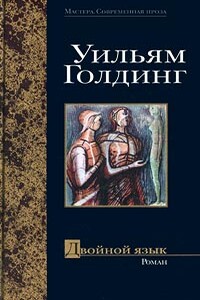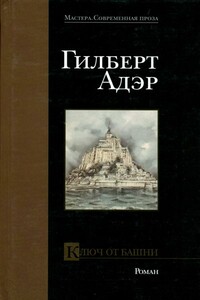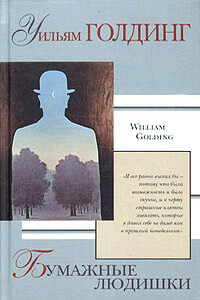Ирреволюция | страница 54
Ставок больше нет, или, вернее, колода — крапленая: с этими людьми не беседуют, говаривал некогда мой отец, который отлично разбирался в вопросах эксплуатации; и правда, с пролетариями не дискутируют; да и как могут они ответить? Разве что забастовкой; но бастовать — это как раз и значит выражаться, прибегая к помощи «вещей». С рабочими не беседуют, от них добиваются — или не добиваются — покорности; покорности, потому что они не умеют ответить как нужно, а не ответить — значит покориться, хочешь ты того или нет.
Это-то мои ученики знают; вернее, подозревают, чувствуют, и я убежден, что они рады бы изменить положение, как рады бы уйти от своего класса, ускользнуть от многовекового ярма. Но им известны также и трудности, которые необходимо преодолеть; трудности обучения языку, никогда не бывшему для них «родным». И они даже преувеличивают эти трудности: вот в чем истинная трудность! Хорошо бы одержать победу, слишком хорошо! В последнюю минуту они отказываются поверить, что такая возможность существует, как отказались в тот раз говорить со мной. Мои ученики сами видят в себе «работников физического труда»; они забиваются в свое словесное и социальное гетто; и даже каются, не щадя себя, в вине, которая вовсе не их вина, когда я, явившись с письменными работами под мышкой и плохими отметками в журнале, предлагаю им найти объяснение сделанных ими ошибок по учебнику грамматики. Но я знаю, что они к грамматике даже не прикоснутся. На что им грамматика? Грамматика — это для других, для отпрысков хороших семей!
Грамматика — для людей вроде меня, преподавателей; для меня, чья роль, чья единственная роль только в том, возможно, и состоит, чтобы подчеркнуть дистанцию между моими учениками, обреченными в нашем обществе на то, чтобы остаться «отстающими», и тем миром, который представляю я, — словом, чтобы внушить им социальное смирение.
Я не сразу понял это — вот в чем моя главная ошибка. Я чуть не оттолкнул от себя навсегда этих бесправных детей, упорствуя на протяжении многих недель со своими философскими речами, такими гладкими, отшлифованными, разыгрывая перед ними спектакль буржуазной «мистерии» с высоты своей кафедры, отстоящей далеко-далеко от немотствующего стада молодых пролетариев, которым было отведено место внизу, на паперти.
Эта дистанция, при всей ее «нематериальности», выражалась в самой топографии класса: передо мной было три ряда пустых столов, меж тем как моя паства теснилась в глубине комнаты и проявляла свое растущее безразличие в непрерывном перешептывании на мирские темы, которого мне никак не удавалось прекратить. Я пытался привлечь внимание прихожан и добиться тишины, но мне выделяли лишь двух-трех самых отъявленных сонь: да и эти последние сменялись в порядке очереди, от недели к неделе, не оставляя ни малейших иллюзий относительно увлеченности моих подопечных.