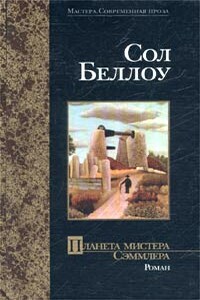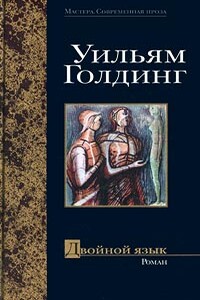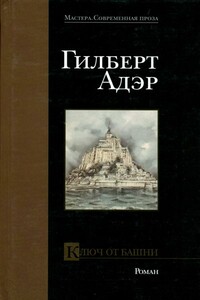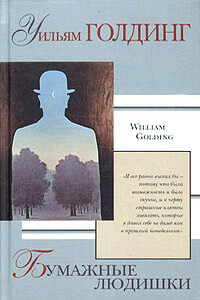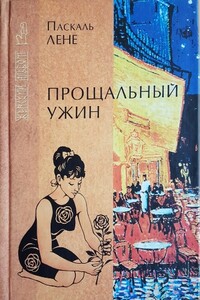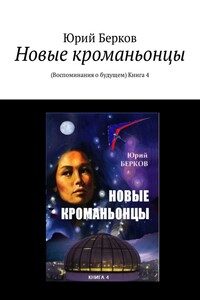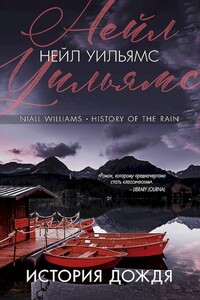Ирреволюция | страница 52
Смотрю как-то, стоят трое или четверо ребят из старшего класса «Е», самые «цивилизованные» на промышленном отделении, у кого в программу включена философия; сгрудились над большим листом миллиметровки с какой-то схемой, им задают такие схемы в мастерской промышленного черчения. И спорят, спорят с воодушевлением: покачивают головами, тычут указательными пальцами, мычат, перебивают друг друга; но ни единой фразы! Заинтригованный, подхожу, прошу, чтобы мне «объяснили».
Мой вопрос их поражает: уж не смеюсь ли я над ними? Могут ли меня, преподавателя философии, красноречия и хороших манер, интересовать всерьез такие обыденные вещи? Но, в конце концов, почему бы и нет? Бывают же в Сотанвиле проездом, по дороге в Париж, англичане, которые задерживаются в городе, чтобы сфотографировать площадь Ратуши!
Они оборачиваются ко мне, водят пальцами по чертежу, вот шестерня, а здесь такая-то штука, шатун, что ли, а там, очевидно, кулак; и они возвращаются к своему спору, забыв обо мне. Но я не отстаю: «Что это за чертеж?» Сжалившись надо мной, один из парней извлекает из кармана мятую бумажку с заданием; ее разглаживают, потом, когда она принимает презентабельный вид, протягивают мне, все так же молча, доверяя, очевидно, моим предполагаемым, положенным мне по должности способностям понимания математических иероглифов моего коллеги.
Мне, естественно, остается только откровенно признаться, что я не в силах расшифровать эту кабалистику, даже если бумажка разглажена, и попросить, чтобы мне объяснили не задачу, которая все равно мне ничего не скажет, а решение.
Тут мои четверо подмастерий в полном отчаянии принимаются все разом водить пальцами по схеме, приговаривая: «Это вот — это… а это — это…», но смысл все равно от меня ускользает.
Я сделал еще несколько попыток, столь же безуспешных. Всякий раз я надеялся, что они наконец заговорят по-настоящему, связными предложениями; я надеялся, они приспособятся к моему уровню понимания; к уровню человека, который ничего не смыслит в этом деле; но в последний момент они уклонялись в сторону, точно натыкаясь на непреодолимое препятствие; они отказывались говорить, как лошадь отказывается взять барьер.
Некое подобие речи намечалось, но такое неполное — только намек; нечто замкнутое в себе! Замкнутое, отгороженное невидимым барьером. Преодолеть его должен был я сам, если смогу, я сам должен был проникнуть за загородку, в поле их подразумеваемой речи, только подразумеваемой, чтобы расшифровать смысл местных речений и тем самым придать им законченность, выразить их в словах.