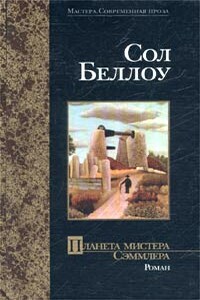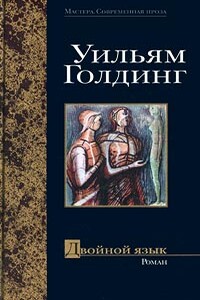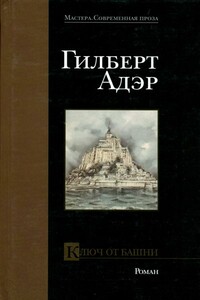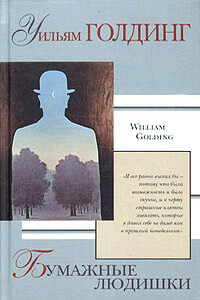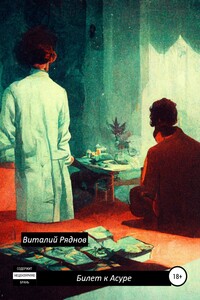Ирреволюция | страница 37
Станет еще хуже? А почему? Исчезнет ощущение, что сотанвильские улицы слишком широки для меня. Я куплю новую малолитражку. По воскресеньям стану ездить в лес Эрувилетт и начну ухаживать за одной из преподавательниц или за одной из учениц, чтобы не походить в точности на всех остальных; и потому, что восемнадцатилетние девушки кажутся мне привлекательней, чем тридцатилетние с пятигодичным педагогическим стажем. Директор будет мною доволен; он собственноручно наделит меня традиционной гладильной доской. И я получу квартиру в стандартном доме.
В конечном итоге с учениками мне все легче и легче: это совершается во мне само собой, как и все остальное. Зачем мучиться? Зачем упорствовать, навязывать себе необходимость выбора? Мое существование мало-помалу само выбирает меня. Мой персонаж врастает в меня, меня заполняет. Я ничем не отличаюсь от прочих и должен этому радоваться, потому что все мои тревоги в таком случае — всего лишь помехи в эфире; мое дело — не прислушиваться к ним, это в конце концов не так уж трудно.
Нужно продолжать беседы с учениками. Настанет день, когда я их пойму. И перестану быть, для них и для себя, неким мифом, явившимся из Парижа, с левого берега, превращусь просто в их преподавателя. Они начнут слушать меня, а мне будет что им сказать.
Это немало: принести себя в жертву. Разве только мне нечего терять. В этом-то и вопрос; но вопрос ли это? Не знаю. И я внимательно прислушиваюсь к своим ученикам, когда они удостаивают меня разговором, и начинаю находить больше смысла в их запинающейся болтовне, чем в своих собственных, приевшихся рассуждениях, — вот и ответ.
Не нравится мне этот ответ. Он мне осточертел. Да и они, мои дети пролетариев, предполагаемые революционеры, мои сыновья железнодорожников, рабочих, крестьян, служащих с ежемесячным окладом в полторы тысячи франков, на которые нужно прожить впятером, а то и вшестером, — они тоже не склонны подать мне милостыню и поверить мне так, за здорово живешь, или хотя бы прислушаться ко мне, к моим затверженным в университете буржуйским считалочкам о классовой борьбе, надвигающейся революции и роли, которую должны сыграть в этой революции они; они, снашивающие уже третью подметку на ботинках. Нет, они не подадут мне этой милостыни — им не из чего подать. У них и так слишком мало, чтобы пойти на риск потерять и это. У них чуть больше, чем у других, как раз настолько, чтобы за это держаться. Для них революция — это беспорядки; забастовка — встревоженная мать, раздраженный отец, приятель Сенже, который заявился в дом и требует по счету, грозит. Так что из-за приятеля Сенже они — не революционеры. Революция — это дело преподавателя философии или тех, кому нечего терять. Но Сотанвиль богат; здесь нет безработицы, нет крайней нужды; жизнь трудна в меру: не чересчур, но и не недостаточно. Этой жизнью дорожат; в конце концов, не так уже она сурова. Так что революцию предоставляют тем, кто обитает в северо-восточной части города, на окраине промышленной зоны, в бидонвилях; ее предоставляют всем этим арабам, португальцам, а также развращенным шахтерам соседних областей; всем этим людям, которых немного побаиваются; побаиваются, например, что придется разделить с ними то немногое, чем владеешь. Побаиваются также «коммунизма», про который известно — так говорят хозяин и недавно купленный телевизор, — что он не признает «собственности»; может, даже такой минимальной собственности, как полторы тысячи франков в месяц и телевизор, имея которые, испытываешь смутное чувство вины перед теми, у кого нет ничего; перед теми, кого торопишься осудить, пока не осудили тебя самого.