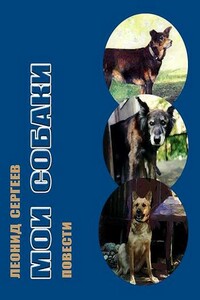Лёлита, или Роман про Ё | страница 108
Гепард… Говорят, гепард единственный на земле зверь, открыто сопротивляющийся комплексу лебединой верности. Заведомо лишённый самого чувства пары, он не переносит личной несвободы ни в каком проявлении. И не размножается в ней, говорят…
А хоть бы и гепард!
А кто-нибудь — вот кто-нибудь хотя бы — в душу его гепардью когда заглядывал?
Может, он просто живёт, как бежит: быстро, но недолго. Зато выкладывается-то по полной…
Нет, пусть будет гепард.
По-черепашьи ты, Палыч, никогда не умел, факт. Вот только куда теперь эту прыть? И что ты такое, если некому больше сходить по тебе с ума? Фук. Мираж. Призрак замка Моррисвиль. Нолик без палочки…
Голубки мои — тихие и вздорные, доверчивые и стервозные, глупенькие и многомудрые!.. Девочки мои — рыдающие и хохочущие, роскошные и на любителя, махонькие и с ногами от ушей (а вы не встречали — так и заткнитесь), худенькие и справные, стриженые и долговласые, тёмные, светлые, на крайняк осветлённые!.. до румянца чистые недотроги и хлебнувшие неописуемого блудницы, едва оперившиеся и всеми бальзаками воспетые, но всегда, всегда, всегда самые-самые — где вы, спасительницы?
Зайка не была лучшей: ей просто выпало стать последней. Вдумайся только: это была твоя последняя женщина. Хранительница последнего твоего поцелуя. Последнего прикосновения. Последнего всего… Кошмар какой-то.
Ибо, если Дед прав, а Дед прав! Дед всегда прав — любить тебе, Андрюха, на этой Земле больше некого. А тебя, гепарда и долболоба — и тем более…
И в полнейшем отчаянии я отправился на крыльцо и задержался там чуть дольше, чем требовало содержимое трубки…
Снег в ту ночь лёг окончательно. А я лёг часов в девять. Обожаю засыпать в это время. Ещё с армии. Отстоишь, бывало, ночь дежурным по роте, подымешь личный состав, построишь, поверишь, проводишь на завтрак, сам туда же прогуляешься, вернёшься — дневальные шуршат, в ушах туман. Доложишь командиру подтянувшемуся: в роте порядок, вашбродь, убываю на покой. Передашь повязку кому понадёжней и — баиньки. Простыня белая, одеяло синее, по казарме гул плывёт, что по Казанскому вокзалу. Но вот он тише, тише, тешит, колыбелит. Наконец провалишься и — до двух (согласно уставу, а фактически до всех трёх), потому как в четыре развод (опять же: вон, оказывается, откуда к разводам-то привычка). И опять в ночь; а утром — утро и предвкушение самого заслуженного на земле отдыха.
Полтора года дежурств приучили меня к тому, что слаще дневного сна не бывает. И я готовился провалиться в эту ностальгическую сладость.