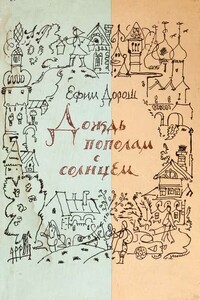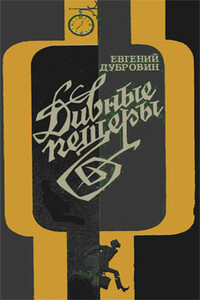Деревенский дневник | страница 30
В Ужболе есть школа, но учителя если и ходят в клуб, то только как зрители, никакой культурно-просветительной работы они не ведут ни в клубе, ни в колхозе, ни среди взрослых, ни среди молодежи. Есть, в Ужболе и комсомольская организация, секретарь ее — финансовый агент, человек колхозу посторонний.
На стене ужбольского клуба висит большая железная вывеска. Она старая, проржавевшая. Есть и другая, новая вывеска, а эта висит просто так, на боковой стене, вроде заплаты. На вывеске белым по черному написано: „Ужбольский народный дом имени Некрасова. Основан в 1919 году 12 октября“.
Я часто думаю о том, во-первых, почему этот текст не перенесли на новую вывеску, висящую над входом в клуб со стороны улицы? И, во-вторых, я думаю о той молодежи, которая открывала клуб, считая это событие — историческим (даже дату поставили на вывеске), видя в нем одно из завоеваний Октября. Не из этого ли поколения вышли многие замечательные наши люди! И еще я думаю о том, что это очень плохо, когда вся шефская работа здесь сводится к тому, чтобы помочь колхозу в полевых работах.
Наконец, думаю я и о том, что Николай Леонидович, которому двадцать восемь лет и который, на мой взгляд, и коммунист неплохой и человек культурный, немногим старше этих матерящихся молодых людей. Но он вырос в материально крепком колхозе, у Ивана Федосеевича, прошел школу войны, армии, долгое время учился и работал в областном городе. Если бы не сентябрьский Пленум, он в деревню не поехал бы. Но у него в личном деле сказано: „Окончил школу руководящих колхозных кадров“ — и его послали председателем.
А в здешнем клубе можно бы многое сделать. Нужна только самодеятельность молодежи, нужен вожак, способный ее увлечь. Нужно, чтобы молодежь стала несколько романтичнее, — такими были те, кто писал старую клубную вывеску, — но этого романтизма, боюсь, нет ни у местных учителей, ни у секретаря комсомольской организации.
Николай Леонидович уехал в Москву, на выставку, и все зашевелилось, деревня кишит как муравейник: бабы собираются с товарами на рынок в областной город. Идут сразу две машины — с колхозной продукцией и с продукцией колхозников. Женщин на машинах довезут до Райгорода, и там они пересядут на поезд, корзины же с вишней шоферы доставят прямо на базар.
Машины ушли, а на другой день мне рассказывали, что на вокзале, у кассы, к женщинам неожиданно подошел Николай Леонидович, ожидавший московского поезда. „Ужбольские?“— спросил он, так как не всех еще знает в лицо. Женщины смутились, но всё же, набравшись смелости, ответили: „Ты уж нас, Николай Леонидович, ругай не ругай, а эту неделю работать не будем — товар пропадает!“ И верно — вишня почти вся созрела, осыпается, на земле под деревьями ее очень много. Над садами все время кружат скворцы, их многие сотни. Не помогают ни пугала, ни выстрелы, ни красные флаги, которых все больше и больше вывешивают в садах. Так вот, женщины сказали, что работать эту неделю не будут, а Николай Леонидович промолчал, только насупился-и отошел. Он ведь не может гарантировать им, что на трудодни они получат столько же денег, сколько за „товар“ с усадьбы. Колхозу трудно пока что конкурировать с усадьбой, с ее высокой агротехникой, с ее отличными урожаями.