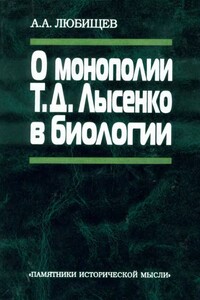Дневник А. А. Любищева за 1918-1922 гг. | страница 55
Мне представляется очень интересным как-нибудь постараться развить все такие контроверзы, всего лучше в форме диалогов, наподобие платоновских, где бы действующими лицами были бы Беклемишев, Шев, Гурвич и я. Такие диалоги можно было бы написать и по биологическим генам.
Пермь, 22 февраля 1922 г., среда
Приходится теперь очень редко писать в дневник по многим причинам. Во-первых, сейчас читаю два курса: общей биологии и генетики (3 часа в неделю и два часа практических занятий) и курс зоологии позвоночных (4 часа в неделю); подготовка отнимает так много времени, что я не успеваю по приезде из Питера читать что-нибудь, не относящееся к курсам. Много заметок накопилось еще с прошлого года, но все не успеваю их разработать; с другой стороны многие соображения записываются у меня в отдельных местах, смотря по содержанию, и на дневник остается, пожалуй, только то, что еще не получило определенного выражения. Решил записать сюда, как это я делал и раньше, выдержки, содержащие выпуклые мысли, хотя бы из беллетристических произведений. Начну с Уайльда, которого я теперь недавно прочел два томика (издания Таухниц) из… (как это прекрасно оправдывалась на примере самого Уайльда)…
Последние произведение («Портрет В. Х.») производит впечатление полусерьезной теории, направлений к тому, чтобы доказать, что лицо, которому были посвящены сонеты Шекспира, был молодой актер. Аргументация довольно убедительная и похожа на аргументацию, пытающуюся установить авторство произведений Шекспира. Уайльд не скрывает тонкой иронии против тех, кто считает, что теория, выдвигающая, например, существование определенного лица, обязательно нуждается в доказательстве документально, что такое лицо существовало. Такое требование, конечно, характерно для чрезвычайно неразвитых дисциплин или умов (например, требование, что сколько бы мы не приводили доказательств существования детерминантов, они получают только тогда достаточную, убедительность, когда их «покажут») и, например, вряд ли может иметь вес в науках, оперирующих точными аргументами.
Пермь, 24 февраля 1922 г., пятница
Из недавнего разговора с профессором Д. В. Алексеевым мне до известной степени стало ясным основание моего, вообще говоря, враждебного отношения к логике. Я что-то начал говорить о концепции Бога по Джемсу (из плюралистической вселенной), где бог множественен и ограничен, и указывал, что, конечно, бог в такой же степени может нарушить законы природы, как по распространенному вопросу он не может создать комнату, в которую сам войти не может. Алексеев ответил, что это есть просто ограниченность нашего понимания и что, например, для бога не обязателен принцип исключения третьего. Я толком никогда не знал, что такое представляет из себя этот закон: оказалось очень простая штука: если А не равно Б, а Б равно В, то А не равно В. Мне тотчас пришло в голову, что и в области человеческого понимания человеческий интеллект уже перерос этот принцип: именно в категориях одинаковой мощности совокупностей (здесь понятие мощности есть обобщенное понятие величины, к которому уже закон исключенного третьего неприменим). Это меня навело на мысль, что подобно тому, как может существовать несколько метафизик, существует несколько метагеометрий и может существовать несколько логик, из которых все за исключением общепринятой могут называться металогиками. Подобно тому, как с геометрии, отбрасывая определенные аксиомы, строятся различные геометрии, так и в логике мы можем, отбрасывая некоторые основные законы мышления, строить металогические системы. И как вопрос о реальности определенных геометрических построений есть вопрос от этого совершенно независимый, так и тут. Весьма возможно, что неприязнь, с которой встречается, например, учение Бергсона со стороны представителей современной логики (например, Сынопалов), есть именно следствие того, что для придания законченности этому учению требуется построение своей логики, как, видимо, в настоящее время в физике склоняются к тому, что геометрия Риманна более реальна, чем евклидова, так, может быть, и одна из возможных логик окажется более реальной для изучения действительности, чем существующая в настоящее время.