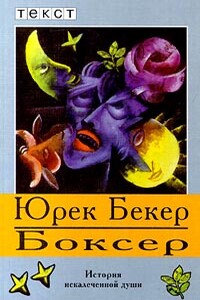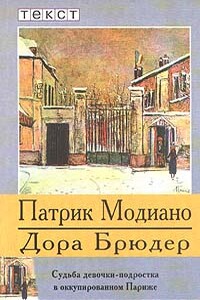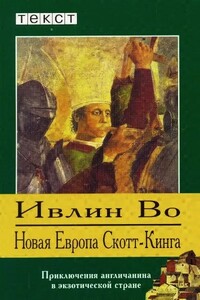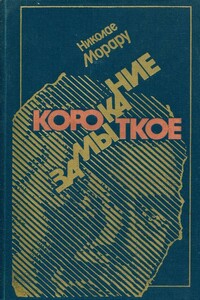День плиточника | страница 55
Помнится, тетя Свеа, работавшая «холодной буфетчицей» в стокгольмском «Гранд-отеле» (место благородней других, а потому и греховней), вечно рассказывала жуткие истории о том, что случается из-за пьянства. Пьянчуги сидели по ресторанам и в конце концов теряли всякое соображение. Теткин дружок Чарли — он служил в «Гранд-отеле» швейцаром — однажды, к примеру, выручил какого-то господина, который окунул подтяжки в унитаз с дерьмом, а после как ни в чем не бывало нацепил их поверх белоснежной парадной сорочки, — так вот Чарли тихонько, чтоб никто не видел, посадил его в такси и получил за это полсотни крон. А иные крестьяне через пьянство лишались всего достояния — и земли, и дома. Пьянствовали по гостиницам, меж тем как ребятишки ихние корочки хлеба не имели. (Торстен порой удивлялся, как тетка Свеа вообще может работать в таком месте, от которого одни беды, но название ее должности — «холодная буфетчица» — звучало солидно. Внушало ощущение, что она, по крайней мере, не впутывается в эти опасные дела. «Горячая буфетчица» куда хуже.)
Собственно говоря, все человечество можно разделить на людей хороших и плохих. Лет в семнадцать, когда работал газетчиком на перегоне Эребру—Вестерос, Торстен начал догадываться об ужасной правде: он ошибался, праведники и трезвенники вовсе не составляют большинства.
КНИГИ! ГАЗЕТЫ!
Перегон был длинный, и все это время он со своей большой тяжелой сумкой ходил взад-вперед по вагонам. В Халльсберге подвозили вечерние газеты, и он принимал смену от напарника, худого, прыщавого, болезненно-бледного долговязого парнишки. За минуту-другую, прежде чем поезд тронется и напарник спрыгнет на перрон, надо было умудриться проверить счета. Начальник станции, здоровенный бугай, не давал снисхождения газетчикам, которые задерживали поезд. Вернее сказать, он вообще считал газетчиков помехой.
От сумки чертовски болела спина, особенно в начале рейса, а когда скорый поезд кренился на поворотах, надо было удержаться на ногах и не упасть на пассажиров. На первых порах такое бывало и не всегда встречало дружелюбный прием. Хотя иной раз все громко ржали — если он приземлялся на коленях у какой-нибудь пышной, а изредка даже вполне миролюбивой особы, которая кокетливо обнимала его за талию и не отпускала: дескать, наконец-то нашелся долгожданный женишок. Н-да, уверенности в себе у Торстена от этого не прибывало. Сейчас, спустя без малого пятьдесят лет, стоя среди пыли и запаха сырой штукатурки, он по-прежнему заливался краской при воспоминании о тех мучительных минутах.