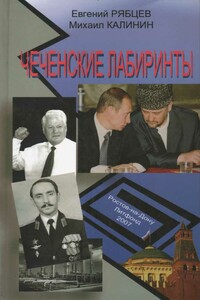Литературная Газета 6259 (№ 04 2010) | страница 22
Но именно эта правдивость и серьёзность, по мнению других, является недостатком, и очень большим: «Впечатление, которое оставляет роман… – скорее чувство неловкости, вызванное человеческим документом. Вроде чужого письма, которое мы по случайности прочитали» (Варвара Бабицкая).
У Кантора что ни фраза, то диагноз или приговор: «Западный мир вёл наглую и жирную жизнь, набирал кредиты, которые должны были бы отдавать его наследники – если бы таковые наследники народились. Но до наследников дело не дошло, Запад умирал бесплодным напомаженным стариком». – «Ведь совсем необязательно, чтобы твёрдая рука секла или сдирала шкуру, – твёрдая рука может, например, покровительственно трепать по щеке». – «Отделить грех от добродетели очень просто. Но куда больше противоречий внутри самой добродетели». «Причина Первой мировой войны в том, что всем была нужна Вторая мировая». И уж совсем не смешно выглядит оглашение того исторического факта, что бессмысленно мотавшийся по русским степям бронепоезд генерала Деникина назывался «Единая Россия».
Болезнь, больница, страдания, умирание, гибель… Этим полны страницы романа, выстроенного по классическим канонам. От агонии Запада до кончины никому не ведомого врача-гинеколога. Смертельно болен и умирает в конце повествования главный герой (наряду с Историей) романа, учёный-историк Сергей Тетерников, никаких благ от своей учёности не получивший, да ничего серьёзного и не опубликовавший. С абсолютно русским кредо, обращённым к ученику: «Знаете, Антон, мне всегда казалось, что лучше выпить рюмку водки, чем вести пустые споры». Все его преимущества перед окружающими: он ясно понимает всю трагичность происходящего, но тем самым отнюдь не избавлен от собственной смерти. А споры, бесконечные споры о «вечных вопросах» идут и в больничной палате для смертельно больных, обречённых. Ну что им, казалось бы, Гекуба? Но больничные разговоры выписаны автором как некий греческий хор, сопровождающий любые события.
Конечно же, вспоминаются «Смерть Ивана Ильича», «Раковый корпус», «Один день Ивана Денисовича». И даже «Старик и море», как символ противостояния человека и беспощадной стихии.
Куда бежать из этого царства всеобщей гибели? Параллельно описывается история афганского узбека, который бежит из Москвы… в Афганистан! Что, конечно же, воспринимается как метафора исхода. Уж лучше туда, чем здесь! Более того, можно понять и так: он бежит из Царства Ирода. И тогда этот человек, который не воспринимается в начале повествования как главный герой, вдруг становится Иосифом, который вывозя спасает младенца, татарчонка, сына служанки Тетерниковых.