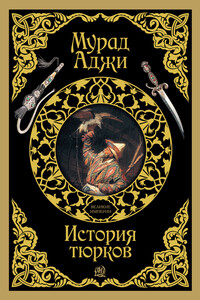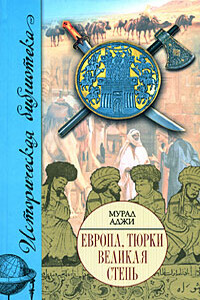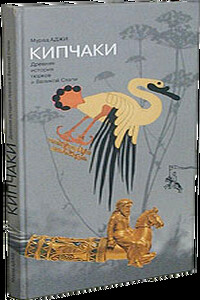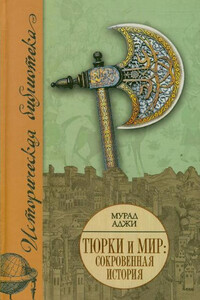Полынь Половецкого поля | страница 61
С братоубийства началась Киевская Русь… И верно, летописные миниатюры — «окна в исчезнувший мир». Если их отмыть от грязи, то многое увидится. Жизнь целого народа… Моего народа.
А один рисунок разительно отличается от других, на нем степные воины выглядят иначе. Почему? Конь, сбруя, стремена, шашка — все такое же, но на головах у них вместо шлема колпак с полями. Что это? И кто это? И почему это?
Колпак похож на казахский или киргизский мужской головной убор, он до сих пор там в ходу, называется «шапан». Значит, не трудно догадаться, что на рисунках люди, пришедшие в Киев из восточных каганатов Дешт-и-Кипчака. Их называли «печенегами». Печенеги не носили папах, традиционных для западных каганатов Дешт-и-Кипчака, зимой они носили борик (шапку), хотя в остальной одежде сходство у тюрков было полным… Так что по головным уборам различались не только роды, но и население каганатов.
Многое таят в себе летописные миниатюры. Они, как знаки древней письменности, открывают картины жизни ушедших поколений. Их надо уметь видеть. Кому-то, возможно, эти произведения искусства покажутся примитивными, и он решит, что примитивно жили предки. Нет, каждая деталь летописной миниатюры выписывалась с особым тщанием, ибо таила глубокий смысл, передавала чувства и мысли народа.
Вина ли в том предков, что мы, потомки, очерствели, разучились понимать и чувствовать реальность? Вот и не понимаем их!
Тонким вкусом светятся миниатюры: каждый символ, каждый штрих приглашают к неторопливой осмысленности, к созерцанию. Ничего нет лишнего, все закончено, все понятно.
Подобная запись времени отличает китайскую и японскую графику, в ней тоже художники обязательно оставляли белое пятно — место для воображения зрителя. Чтобы зритель стал соавтором, а его «картина» — самой выразительной и запоминающейся на свете. Но видеть ее мог только он один!
Порой один символ, штрих, иероглиф говорит куда больше, чем страницы иной пухлой книги. В этом своеобразие восточной культуры. Восток ценил время и место на бумаге. Миросозерцание у него в крови, отсюда духовность и глубина живописи, ее законченная «незаконченность»…
Отличали тюрков и предметы их быта, тоже со своими стандартами, со своим представлением о красоте. Эти «домашние мелочи» также несут информацию о степной культуре. И как бы ни называли историки эту культуру — половецкая, печенежская, булгарская, андреевская или какая иная, — корень ее был один, тюркский