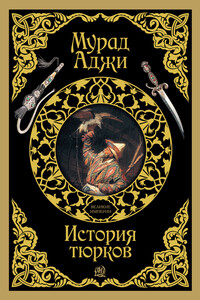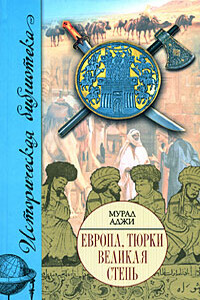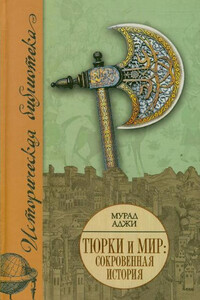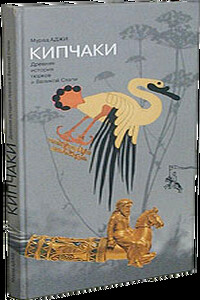Полынь Половецкого поля | страница 43
Вот еще один фрагмент, уже из другой византийской рукописи (572 года): «В это время гунны, которых называли тюрками…» Значит, «гунны» и «тюрки» у греков тоже были слова-синонимы. А венеды? Как могли они называть тюрков? «Половцы!» Только «половцы». «По», как отмечал английский историк Дж. Флетчер, в древности означало «народ», отсюда по-ловец — «народ-ловец». Тоже от слова «лов». И историк XVI века М. Меховский считал так же, выводя слово «половцы» от древнерусского «ловы» — «охота».
Подобное объяснение наверняка вызовет отрицание. Да, оно не бесспорно, возможно, даже сомнительно. Согласен. Однако… оно неплохо согласуется с реалиями, отрицать которые трудно. Здесь нет витиеватости, приближенной умозрительности, все очень конкретно.
Чтобы не спорить по-пустому, вновь обратимся к историческим документам и логике. Например, Карамзин указывал: «при Олеге» на Руси не знали о половцах. Киевляне этим словом не называли своих южных или восточных соседей. Почему?
Потому что в Киеве царствовало двуязычие, но письменность была тюркская — глаголица. А в тюркском языке нет слова «половец», есть «кипчак», им и пользовались. Но когда к власти пришел новый правитель, князь Владимир, тюркский язык как государственный сменился на славянский. И — в обиход вошло слово «половец»… Правда, Карамзин увидел здесь не смену правителя и языка, а появление нового «народа» у границ Руси.
Однако переселения народов в XI веке не было! Не могло оно быть, поэтому неоткуда было взяться новому народу. Народы же «не падают с неба», как учил сам Карамзин.
Нелепость присутствует и в истории с печенегами, внезапно появившимися и внезапно исчезнувшими. Это тоже не народ, а одно из названий кипчаков. Так называли воинов восточного кагана, который в VIII–IX веках пытался объединить тюркские каганаты в единое государство. Но об этом позже.
Вновь обратимся к «России при старом режиме», книге Пайпса, признанного в мире специалиста по славянской истории и культуре. «Из того немногого, что мы знаем о восточных славянах этого периода (VII–IX вв.), — пишет Пайпс, — следует, что они были организованы в племенные общины. В лесной полосе, где жило большинство из них, преобладало подсечно-огневое земледелие, примитивный метод, вполне соответствовавший условиям их существования. Сделав в лесу вырубку и утащив бревна, крестьяне поджигали пни и кустарник. Когда утихало пламя, оставалась зола, настолько богатая поташом и известью, что семена можно было сеять прямо по земле, с минимальной подготовкой почвы… Эта земледельческая технология требовала постоянного движения». Иначе говоря, кочевого образа жизни.