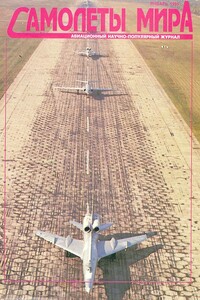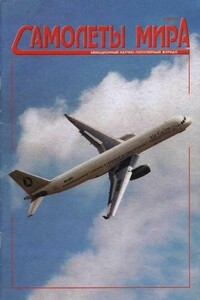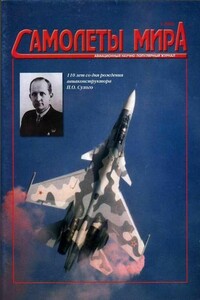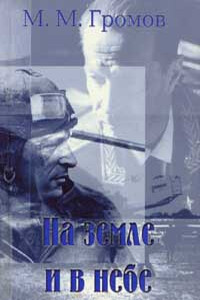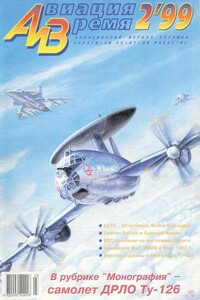Самолеты мира, 2003 № 01 | страница 28
К этому времени руководству МАП стало ясно, что ЖРД при существовавшем в то время конструктивно-технологическом уровне непригоден для нормальной эксплуатации в воинских частях, бортовой РЛС тоже нет. Следовательно, мечту о ракетном перехватчике нужно оставить до лучших времен.
Как уже говорилось, после окончания войны в ЦАГИ имелась только одна скоростная аэродинамическая труба Т-106, обеспечивающая продувки до числа М=0,9. В 1945 г. и начале 1946-го в этой трубе исследовались новые скоростные профили. Однако полученных результатов было явно недостаточно для штурма звукового барьера. В 1946 г. ученые перешли к давно назревшим исследованиям по стреловидным крыльям, и к концу года конструкторы получили первые рекомендации по крылу с прямой стреловидностью 35 градусов.
ОКБ С.А. Лавочкина впервые в стране поставило такое крыло на экспериментальный реактивный истребитель «160» с форсированным ТРД РД-10 и провело в 1947 г. летные испытания. В полетах со снижением было достигнуто число М=0,92 без проблем с устойчивостью и управляемостью, в то время как для самолетов с прямыми крыльями предельным являлось число М порядка 0,8-0,83. Данные натурных испытаний самолета «160» хорошо согласовывались с исследованиями в трубе. Теоретические предположения об эффективности стреловидных крыльев для достижения больших скоростей подтвердились. Полученные результаты использовали при проектировании и постройке новых типов реактивных истребителей, два из которых – МиГ-15 и Ла-15 – были запущены в конце 1948 г. в серийное производство.
Однако для преодоления звукового барьера (а задача стояла именно так) крыло стреловидностью 35° не годилось – слишком велико было его сопротивление. Чтобы достичь заветной цифры, требовалось довести стреловидность хотя бы до 45° и увеличить тягу двигателя. Нужное крыло в ЦАГИ разработали, но труба Т-106 не позволяла испытать его на скоростях свыше М=0,9. Выдавать рекомендации конструкторам по установке такого крыла на новые самолеты руководство ЦАГИ не решалось.
Всё это прояснилось в конце 1946-го, и становится понятно, почему Хруничев не хотел достраивать экспериментальный самолет «4302» – ведь требовалась уже совсем другая машина. А заодно – настало время избавиться от неугодных жалобщиков (см. выше) и передать это дело более приятному для начальственного ока исполнителю. В бывшей вотчине главного конструктора Болховитинова – на заводе № 293 МАП сформировали новое ОКБ во главе с М.Р. Бисноватым. Несмотря на то, что именно он являлся конструктором планера самолета «302» печально известного А.Г. Костикова, в его компетентности министр, видимо, не сомневался.