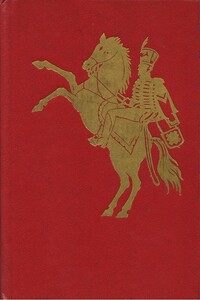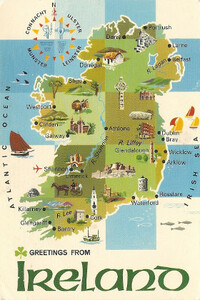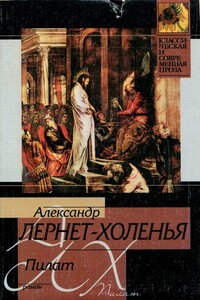Дороги Фландрии | страница 58
А я-то думал тебя эта война интересует Я даже вообразил себе что ты в ней непосредственно заинтересован Только не в четыре часа утра да еще верхом на этой кляче да еще под этим дождем.
Стало быть по-твоему сейчас уже четыре утра Ты думаешь когда-нибудь все-таки наконец рассветет?
А разве это не отблеск зари посмотри-ка вон там вправо вроде бы стало посветлее.
Где? Где и что ты разглядел в этой чертовой темнотище Вон там что-то временами поблескивает какая-то полоска посветлее.
Возможно это вода Может быть Маас Или Рейн Или Эльба
Нет не Эльба мы бы знали Тогда что же?
Нам-то до реки какое дело Как по-твоему который сейчас час Тебе-то какое дело
Мы уже дня три торчим в этом вагоне Ладно пускай тогда будет Эльба
Два голоса два безликих голоса чередуясь обменивались во мраке репликами имевшими не больше реальности чем звук этих голосов говоривших о вещах не более реальных чем чередование звуков, и однако диалог продолжался: поначалу всего лишь два потенциальных трупа потом как бы два живых трупа, потом один из них и в самом деле умер а другой по-прежнему жив (хотя по-видимому, думал Жорж, хотя по-видимому это тоже пожалуй не намного лучше), и оба (тот кто умер и тот кто допытывался у себя самого не лучше ли по-настоящему умереть поскольку хоть этого по крайней мере не знаешь) взятые в плен, загнанные в эту одновременно неподвижную и двигающуюся штуковину которая медленно утрамбовывала своею тяжестью поверхность земли (возможно именно это Жорж продолжал различать сквозь дробное и терпеливое цоканье лошадиных копыт некое скольжение, еле приметный скребущий шумок, чудовищный, пепрекращающийся: это олимпийски медлительное продвижение, это неторопливое наступление ледника сдвинувшегося с места еще в начале времен, дробившего, давившего все и вся, и в толще которого ему чудилось будто он уже видит их обоих, себя и Блюма, застывших и вмерзших, сидящих верхом как были в сапогах, со шпорами, на своих загнанных клячах, не тронутых тлением хотя уже и неживых среди сонмища призраков тоже вмерзших во весь рост в своей кавалерийской выцветшей форме некогда приятного для глаза оттенка продвигающихся вперед всем скопом на такой же еле приметной глазу скорости подобно застывшему кортежу манекенов судорожно покачивавшихся на своих цоколях, всех равно заключенных в эту зеленоватую толщу сквозь которую он пытался их опознать, угадать, повторяющихся до бесконечности в зеленых глубинах зеркал), тут раздался трогательный и шутовской голос Блюма: «Но ты-то что об этом знаешь? Ничего ты сам не знаешь. Не знаешь даже было ли заряжено ружье или нет. Не знаешь даже случайно или нет раздался этот выстрел из пистолета. Мы не знаем даже какая была в тот день погода, был ли он покрыт пылью или грязью, он вернулся домой бормоча что-то сквозь зубы со своим запасом нераспроданных благородных чувств, и не только нераспроданных но даже встреченных стрельбой и обнаружил что его жена (другими словами твоя прапрапрабабка от которой ныне осталось всего несколько хрупких косточек под выцветшим шелковым платьем в глубине склепа в гробу в свою очередь изъеденном червями, так что неизвестно даже откуда этот тончайший желтый порошок залегший в складки тафты то ли это кости то ли дерево, но тогда она была молодая, была плотью был у нее обрамленный пушком живот, лилейная грудь, губы, а над этими пожелтевшими костями щеки которые заливал румянец наслаждения), значит обнаружил свою супругу применяющую на практике эти возвышенные принципы жизни на природе которым не пожелали внимать испанцы…»